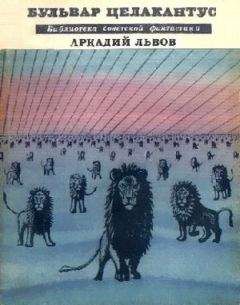– Идем.
И не оглядываясь пошел вперед, разбрасывая на ходу длинные ноги.
Хатковская рванулась за ним. Я схватила ее за руку:
– С ума сошла! Мало ли кто…
– Мадлен, – зашептала Хатковская, – это же такое приключение… Мы же всю жизнь будем помнить…
Он вдруг остановился.
– Я здесь работаю, – сказал он. – Борис.
– Очень приятно, – кокетливо сказала картавая Христина.
Мы стали карабкаться по лесам до самых крестов. Под ногами валялись кусочки мозаики, ведра с засохшей оранжевой краской, щепки и всякая дрянь. Несколько золотых стеклышек я спрятала в карман.
– Здесь, – сказал Борис и открыл маленькое окно.
Мы влезли в собор. Внутри он тоже был опоясан лесами. Над головами простерлась фигура Спаса. Огромные белые глаза Бога были совсем близко, и Хатковская тронула их рукой. В углу, над благословляющими перстами, темнела дыра.
– Снаряд, – сказал Борис. – Идем.
Мы спустились на ярус ниже и очутились в странном круге золотых стен. Я стояла в центре этого круга, и шесть ликов, спрятанных в зеленые крылья, молча и торжественно взирали на меня со своих золотых полей. Зеленые перья, струясь, касались их щек и соединялись под подбородком. В этой раме были заключены огромные черные глаза, обведенные кругами, изогнутый нос, темный, трагический рот.
Скрипнули доски. Пахнуло крепким табаком. Борис, нагнув голову, молча смотрел на наши горящие лица. Потом повернулся и пошел к лестнице, ведущей вниз.
Когда мы уже стояли на каменном полу собора, переполненные видением золотых стен, мерцающих там, наверху, Борис молча пожал нам руки и вдруг, застенчиво улыбнувшись, проговорил:
– Я вам телефон оставлю свой, значит… если что…
Я сунула клочок газеты с номером телефона в карман. Хатковская, глядя широко раскрытыми глазами перед собой и видя только скорбный и суровый лик, спрятанный в буйных крыльях, машинально пожала ему руку еще раз и отвернулась.
Мы трое вышли из собора. Хатковская и я долго стояли на мосту, глядя в сутулую спину, пока Борис не скрылся.
– Кто был прав? – гордо спросила Хатковская.
– Ты права, родная, утешься.
О Хатковская…
Нас с тобою
Было двое,
Неразлучней
Не найдешь.
С нами третий –
Буйный ветер
И четвертый –
теплый дождь.
Мы бежали вдоль Фонтанки
Наступая на дома
В мокром зеркале асфальта…
– Мадлен, дорогая! О Мадлен! О, Мадлен…
– О мы, Хатковская!
– Да! О мы! О мы, которые…
Мы шли по набережной Кутузова.
– Которые… – задумчиво продолжала Хатковская. – Мадленище, а не поступить ли нам в институт культуры?
Она вдруг остановилась, побагровела и согнулась пополам (это она так смеется).
– Представляешь, Сидди, мы будем затейниками. Нас пошлют просвещать массы: меня в Ванькино, тебя в Манькино…
– Балда, – сказала я. – Я буду писать свое полное собрание сочинений, а ты тем временем накропаешь обо мне мемуары.
До нас долетели звуки вальса.
– Это оркестр в Летнем саду, – сказала я.
– Пра-авда? – удивилась Хатковская. – Я никогда не видела у нас почему-то оркестров.
Нежный голос трубы вкрадчиво и грустно выводил мелодию над мокрыми липами. Пахло травой. Было легко и нежно на душе, как тогда, когда я слышу аккордеон с первого этажа.
Хатковская зашептала:
– Посмотри, какой там дяденька с огромной трубой! Он уже весь красный… Еще бы! Такая махина: бу-бу-бу…
Тетенька с собачкой, похожей на паука, покосилась.
– Мадлен! – сказала невозмутимая Хатковская после краткой паузы. – А не пойти ли мне на кафедру дефектологии в качестве учебного пособия?
– Девушка, шуметь идите в другое место, – с достоинством сказала тетенька.
– Это вы мне? – удивилась Хатковская.
– Вам!
– Что-то я не поняла, – зловеще сказала Хатковская.
Запахло скандалом.
Стемнело. Упали первые капли дождя, тяжелые, как кровь. Собачка задрожала обвислым задом и стала нервно поджимать ножки. Заговорили липы. Музыканты поспешно убирали стулья. Через минуту хлынул ливень.
* * *
Учебный год, родные зеленоватые стены, милый кабинет военного дела с манекеном, одетым в защитный костюм и противогаз. Незабываемая встреча с музой.
Муза сияла всеми своими железными зубами. Отныне на занятия по военной подготовке мы обязаны являться в гимнастерках. В белых передниках мы слишком походили на гимназисток.
Никакое перо не в состоянии описать, в каких пугал удалось нам превратить себя. У Натальи часто шла носом кровь. Закапав кровью гимнастерку, она не стала ее стирать и гордо ходила с кровавыми пятнами на груди. Хатковская носила гимнастерку навыпуск, юбка была ненамного длиннее, что придавало моей подруге несомненное сходство с «мальчиком без штанов» у Салтыкова-Щедрина. Что касается меня, то однажды Саня-Ваня, не вытерпев, подвел меня за руку к зеркалу и спросил, не стыдно ли мне. Гимнастерка моя, с плеча какого-то громадного детины, стираная-перестираная, древнего образца, изящным мешком драпировалась на моей стройной фигуре.
Попытки Сани-Вани ввести заодно форменные юбки успеха не имели. По школе поползли двустишия:
Завыли жалобно собаки,
Увидев юбку цвета хаки
и
Во избежание позора
Не придушить ли нам майора.
Саня-Ваня не терял бодрости и начал активную подготовку к районному смотру строя и песни. Мы забросили даже разбирание и собирание автомата Калашникова и принялись наводить глянец на внешность. Торжествуя, Саня-Ваня приволок белые ремни и пилотки и раздал нам. Последние жалкие остатки партикулярности были задушены белыми ремнями.
Я сидела у окна, в пилотке, с двумя косичками, в огромной гимнастерке, и смотрела, как кот крадется по двору. Из-за стены доносилось бумкание рояля и детские голоса. Там шел урок пения. Дети старательно пели:
Товарищ мой, со мною вместе пой,
Идем со мной дорогою одной,
В одном строю плечо-плечо-плечо
Шагают те, в ком сердце горячо
(бум-бум-бум!)
Мы тоже это пели. Кто пел: «К плечу прижав плечо», а кто – «Плечо прижав к плечу», и от этого получалось «плечо-плечо-плечо».
Затем следовало скандирование под мрачные аккорды:
Свободу! Народу!
Свободу! Народу!
И уже сплошной крик:
Когда мы! едины! то мы непобе-димы!
Эмбегло! унимо!
(Это уже они перешли на испанский язык).
Хорошо, что на уроках пения стали петь, лениво думаю я. Сцены из прошлого встают перед моим мысленным взором. Мы в пятом классе проходили оперу «Садко». Учительница диктовала нам содержание, мы записывали его в тетрадки, а потом она нас спрашивала, что случилось с Садко на дне морском. Римского-Корсакова за это мы ненавидели и называли Греческим-Корсаковым, а на «Садко» написали идиотскую пародию под названием «Сапфо». Из персонажей этого произведения помню только святую Санту-Заразу и сочиненную мною арию: