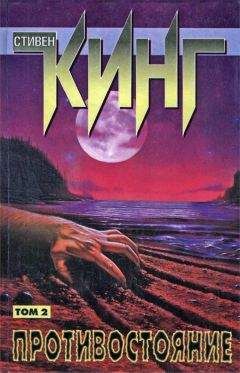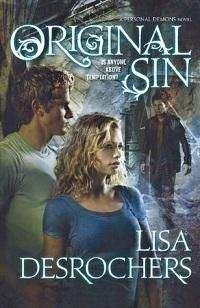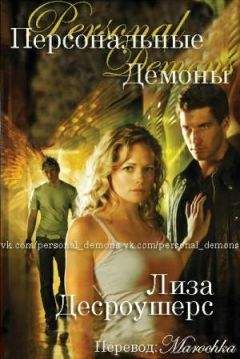Она неуверенно огляделась, видя тут и там застывшие машины — некоторые из них были засыпаны песком аж по капот. От мысли укрыться в одном из этих склепов ей стало плохо — даже хуже, чем от страшного солнечного ожога.
«Я брежу», — подумала она.
Но это вряд ли имело значение. Она решила, что лучше она будет идти всю ночь напролет, чем заснет в одной из этих машин. Если бы только снова очутиться на Среднем Западе. Она смогла бы отыскать сарай, стог сена, поле клевера. Чистое мягкое местечко. Здесь же была лишь дорога, песок и выжженная пустыня.
Она откинула свои длинные волосы с лица, уныло сознавая, что ей хотелось бы умереть.
Солнце опустилось за горизонт, день колебался на стыке света и тьмы. Обдувавший ее ветер пес леденящий холод. Вдруг, испугавшись чего-то, она огляделась вокруг.
Было слишком холодно.
Холмы превратились в темные громадины. Песчаные дюны были похожи на зловещих рухнувших колоссов. Даже колючие шипы сагуаро были похожи на костлявые пальцы обвиняющих мертвецов, которые тычут ими из своих неглубоких песчаных могил.
Над головой — круг неба.
Ей пришел в голову обрывок песни Дилана, холодной и неуютной: «Гнался, как крокодил… разодрал в кукурузе…»
А следом за этим — другая песня, песенка «Иглз», неожиданно испугавшая ее: «И я хочу с тобой спать сегодня ночью в пустыне… с миллионами звезд везде и повсюду…»
Вдруг она поняла, что он здесь.
Даже до того, как он заговорил, она уже знала.
— Надин, — раздался из сгущающейся тьмы его мягкий голос. Бесконечно мягкий — последний окутавший ее ужас, похожий на возвращение домой. — Надин, Надин… как я люблю любить Надин.
Она обернулась, и он был там. Это случилось именно так, как она всегда себе представляла: однажды он просто возьмет и появится. Вот как сейчас. Он сидел на крыше старого «шевроле-седана» (была эта тачка здесь секунду назад? Она не знала наверняка, но думала, что нет), скрестив ноги и легонько опираясь руками на колени, обтянутые выцветшими джинсами. Смотрел на нее и ласково улыбался. Но глаза его были вовсе не ласковы. Они отметали саму мысль о том, что этот человек способен хоть на какую-то ласку. В них она увидала черную радость, пляшущую без конца, как дрыгающиеся ноги у только что повешенного.
— Привет, — сказала она. — Я здесь.
— Да. Наконец ты здесь. Как было обещано. — Его улыбка стала шире, и он простер к ней руки. Она взяла их в свои и, дотронувшись до него, ощутила опаляющий жар. Он излучал жар, как хорошо сложенная кирпичная печка. Его гладкие, лишенные линий ладони обхватили ее руки… а потом сомкнулись вокруг них крепко, как наручники.
— О, Надин, — прошептал он и наклонился, чтобы поцеловать ее. Она чуть-чуть отвернула голову, взглянув на холодный огонь звезд, и его поцелуй пришелся не в губы, а в ямочку на подбородке. Это не обмануло его. Она ощутила издевательскую щель его усмешки на своей коже.
«Он отвратителен мне», — подумала она.
Но отвращение было всего лишь чешуйчатой коркой над кое-чем похуже — над созревшим и долго скрываемым вожделением, над застарелым прыщом, наконец-то показавшим головку и готовым выплеснуть какую-то зловонную жидкость, какую-то давным-давно свернувшуюся и скисшую сладость. Его руки, скользящие по спине, были гораздо горячее ее опаленной солнцем кожи. Она придвинулась к нему, и неожиданно тонкая прокладка в трусиках между ее ног показалась мягче, толще и ощутимее. Шов на брюках стал тереть ее так нежно и непристойно, что ей захотелось самой потереть себя, избавиться от этой чесотки, вылечить ее раз и навсегда.
— Скажи мне одну вещь, — попросила она.
— Что угодно.
— Ты сказал: «Как было обещано». Кто обещал меня тебе? Почему меня? И как мне называть тебя? Я даже этого не знаю. Я знала о тебе почти всю свою жизнь, но не знаю, как тебя назвать.
— Зови меня Ричард. Это мое настоящее имя. Зови меня так.
— Твое настоящее имя? Ричард? — неуверенно переспросила она, и он хихикнул ей в шею, заставив всю ее кожу сморщиться от отвращения и желания. — А кто обещал меня?
— Надин, — сказал он, — я забыл. Пошли.
Он соскользнул с крыши машины, все еще держа ее за руки, и она едва не вырвала их и не побежала, но… Что бы это дало? Он все равно догнал бы ее, поймал и изнасиловал.
— Луна, — сказал он. — Она полная. Как и я. — Он потянул ее руку вниз, приложил к гладкой, выцветшей ширинке на джинсах, и там было что-то жуткое, пульсирующее своей собственной жизнью под холодными зубцами «молнии».
— Нет, — пробормотала она и попыталась оттолкнуть его руку, думая о том, как же далеко это было от той, другой ночи при луне, как невероятно далеко. Это было на другом конце радуги времени.
Он прижимал ее руку к себе.
— Пойдем туда, в пустыню, и стань моей женой, — сказал он.
— Нет!
— Уже слишком поздно говорить «нет», дорогая.
Она пошла с ним. Там лежал спальник и почерневший скелет костра под серебряным скелетом луны.
Он уложил ее и выдохнул:
— Хорошо. Теперь хорошо. — Его пальцы расстегнули пряжку ремня на джинсах, потом пуговицу, потом «молнию».
Она увидела то, что у него было там для нее, и начала кричать.
При первом же крике на лице темного человека появилась ухмылка — широкая, сверкающая и непристойная в ночи, а луна равнодушно смотрела на них обоих сверху, разбухшая, похожая на головку сыра.
Надин издавала вопль за воплем, пытаясь отползти прочь, но он схватил ее, и тогда она изо всех сил сжала ноги, но когда одна из его пустых ладоней очутилась между ними, они разошлись, как вода, и она подумала: «Я буду смотреть вверх… Буду смотреть вверх, на луну… Ничего не буду чувствовать, и все закончится… Все закончится… Я ничего не почувствую…»
Но когда его мертвенный холод скользнул в нее, из ее глотки вырвался крик и свободно разнесся по пустыне, и она боролась, по борьба была бесполезной. Он ломился в нее — пришелец, разрушитель, — и холодная кровь хлынула по ее ляжкам, а потом он вошел до конца, до самой ее матки, и луна отражалась в ее глазах, сверкая холодным серебряным огнем, и когда он кончил, это было похоже на расплавленное железо, расплавленный чугун, расплавленную медь, и она кончила сама, исторгнув вопль от невероятного наслаждения, кончила в страхе, в ужасе, проходя через чугунные и медные ворота в пустынную землю безумия, гонимая через них, сдуваемая туда, как лист, ревом его хохота, глядя на то, как его лицо тает, и вместо него появляется косматое лицо демона, нависая прямо над ее лицом, — демона с мерцающими желтыми фонарями вместо глаз, окнами в преисподнюю, которую невозможно было даже вообразить, и все же в них оставалось то ужасающее веселье; перед ней возникли глаза, которые смотрели сверху на извилистые улочки тысяч погруженных во тьму городов; их взгляд был светящимся, мерцающим и совершенно тупым.