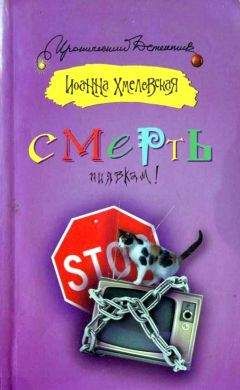- Конечно, Ева.
- А ковер в гостиной...
- ...надо перевернуть. Помню, помню.
- Как нынче утром твоя голова? - Она задала вопрос деловито, не позволяя проникнуть в тон и крупице жалости... но Проныра ощутил глубоко спрятанное сочувствие.
- Голова отлично, - обиженно отозвался он, ставя кипятиться воду для овсянки.
- Ты поздно пришел, вот я и спросила.
- Добыла на меня компромат, а? - Он весело вздернул бровь и с радостью увидел, что Ева все еще способна краснеть, как школьница, даже если они и бросили все забавы почти девять лет назад.
- Ну, Эд...
Только она одна по-прежнему звала его Эдом. Для всех остальных в Уделе он был просто Пронырой. Да пусть их. Пусть зовут его, как им нравится. Вот же налепили ярлычок, грубияны!
- Ничего, - грубовато отозвался он. - Я не с той ноги встал.
- Судя по звуку, не встал, а выпал из кровати, - она проговорила это быстрее, чем собиралась, но Проныра только хрюкнул. Он приготовил свою ненавистную овсянку и съел ее, потом, не оглядываясь, взял жестянку мебельной мастики и тряпку.
Наверху не смолкало "тап-тап-тап" машинки этого парня. Винни Апшо, снимавший комнату наверху через коридор от него, сказал, что тот берется за дело каждое утро в девять, работает до полудня, снова начинает в три, тарахтит до шести, опять берется за долбежку в девять и валяет ровно до двенадцати. Проныра не мог себе представить, что у человека в голове помещается столько много слов.
Тем не менее парень казался приятным. Однажды вечером может сгодиться на то, чтобы пропустить "У Делла" несколько стаканчиков пива. Проныра слыхал, что почти все писатели пьют, как сапожники.
Он принялся методично натирать перила и снова погрузился в мысли о вдове. На деньги от мужниной страховки она превратила этот дом в пансион, и дела шли хорошо. Почему бы и нет? Она работала, как ломовая лошадь. Но, должно быть, привыкла регулярно получать от муженька свое и, когда горе растаяло, потребность эта осталась. Черт, и любила же она это дело!
В те дни шестьдесят первого и шестьдесят второго люди еще звали его не Пронырой, а Эдом, и тогда еще он держал бутылку, а не наоборот. У него была хорошая работа в "Би и Эм" - вот однажды январской ночью шестьдесят второго все и произошло.
Он прервал размеренные движения и задумчиво поглядел в крохотное круглое окошко на площадке второго этажа. Окошко заполнял последний, яркий, идиотски золотистый летний свет - свет, смеющийся над холодной шелестящей осенью и над еще более холодной зимой, что придет следом.
В ту ночь виноваты были оба, а когда грех уже случился, и они лежали рядом в спальне Евы, она расплакалась и сказала, что они поступили неправильно. Проныра ответил: правильно, не зная, так ли это и не заботясь на этот счет. Сильный северный ветер выл, кашлял и визжал под стрехами, в комнате же было тепло и безопасно, и они в конце концов заснули бок о бок, как серебряные ложечки в посудном ящике.
Ах, Господь с младенцем Иисусом, время - что река, и Проныра задумался, знает ли писатель про это.
Он снова принялся длинными, размашистыми, скользящими движениями натирать перила.
10:00 утра.
В начальной школе на Стэнли-стрит - в самом новом и великолепном здании Удела - пришло время большой перемены. Учебный округ все еще платил за низкое, остекленное здание с четырьмя классными комнатами. Оно было настолько же новым, светлым и современным, насколько начальная школа на Брок-стрит - старой и темной.
Ричи Боддин, школьный хулиган и забияка, гордившийся этим, важно вышел на детскую площадку, отыскивая глазами шустрого новичка, который всегда знал ответы на все вопросы по математике. Ни один новичок не являлся запросто в его школу без того, чтобы узнать, кто тут хозяин. Особенно такой вот четырехглазый педрила, учительский любимчик.
В свои одиннадцать лет Ричи весил сто сорок фунтов. Всю жизнь мать приставала к людям: поглядите, какой громадный у меня сынуля! Так он узнал, что большой. Иногда он внушал себе, что чувствует, как от его шагов дрожит земля под ногами. А когда Ричи вырастет, то будет курить "Кэмел", прямо как папаша.
Четвертый и пятый классы боялись его как огня, а ребятишки поменьше взирали на Ричи как на школьный тотем. Когда он перейдет в седьмой класс школы на Брок-стрит, их пантеон опустеет, лишившись своего демона. Все это безгранично радовало Ричи.
А тут еще этот парень, Питри, дожидался, чтобы его взяли поиграть на большой перемене в футбол.
- Эй! - громко крикнул Ричи.
Оглянулись все, кроме Питри. Глаза у всех без исключения стеклянно заблестели. Когда стало понятно, что Ричи остановил взгляд на ком-то другом, в них появилось облегчение.
- Эй, ты! Четырехглазый!
Марк Питри обернулся и посмотрел на Ричи. Очки в стальной оправе сверкнули в утреннем солнце. В росте он не уступал Боддину, то есть возвышался почти над всеми однокашниками, но был стройнее, а лицо выглядело беззащитным и книжным.
- Ты мне говоришь?
- "Ты мне говоришь?" - передразнил Ричи высоким фальцетом. - Что-то голос у тебя, как у педика, четырехглазый. Знаешь ты это?
- Нет, я этого не знал, - сказал Марк.
Ричи сделал шаг вперед.
- Провалиться мне, если ты не сосешь, понял, четырехглазый? Чтоб я сдох, ты сосешь хрен волосатый!
- Да-а? - вежливый тон Марка приводил в ярость.
- Ага, я слыхал, ты в самом деле сосешь. Тебе одних четвергов мало. Невтерпеж. Каждый день - твой.
Вокруг начали собираться ребята, чтобы посмотреть, как Ричи сделает из новенького лепешку. Мисс Хилком, которая на этой неделе надзирала за детской площадкой, вышла на школьный двор присмотреть за малышами на качелях.
- А тебе что? - спросил Марк Питри. Он смотрел на Ричи так, словно обнаружил нового интересного жука.
- "А тебе что?" - фальцетом передразнил Ричи. - Ничего, просто я слыхал, будто ты жирный педик, вот и все.
- Правда? - все еще вежливо спросил Марк. - А я слышал, что ты здоровенный неуклюжий кусок говна. Вот что я слышал.
Полнейшая тишина. Остальные мальчишки разинули рты (но заинтересованно, никто из них еще не видел, чтобы человек сам подписывал себе смертный приговор). Полностью застигнутый врасплох Ричи разинул рот вместе с прочими.
Марк снял очки и подал стоявшему рядом мальчишке:
- Подержишь, ладно?
Мальчишка взял их и молча вылупил на Марка глаза.
Ричи пошел в наступление. Он нападал медленно, неуклюже, без тени тонкости или изящества. Земля у него под ногами дрожала. Ричи переполняла самоуверенность, а еще - отчетливое радостное побуждение топтать и ломать. Он сильно ударил правой. Кулак должен был попасть четырехглазому педриле прямо в зубы, так, чтобы те разлетелись, как клавиши пианино. Готовься идти к зубодеру, педик. Вот я иду.