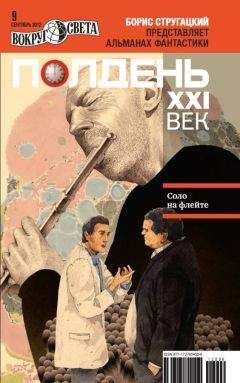На плечах у обоих болтались автоматы. За бутылку товарищи были готовы продать и состав с Литвиненко, и даже коменданта, сорвавши последнему резьбу.
Полковник мучительно вчитывался в строки, расползавшиеся под его взглядом, как ветхая мешковина. С возрастом глаза его, неуклонно слабевшие, по закону природы восполнили этот дефект мудрым умением проникать в действительность. Она тоже расползалась, как гнилая мешковина, оборачиваясь пустотой.
Пустота плодоносила. В день, Когда Лопнуло Все, когда все вдруг взорвалось, сломалось, упало, разбилось, порвалось и утонуло, в образовавшиеся лакуны хлынула Хворь. Ее запасы можно было сравнить с нефтяными и газовыми. Многие думали, что она сидела под землей и караулила тысячу лет. Жизнь налаживалась и начинала представляться сравнительно сносной; эта иллюзия погибла обычным утром, за считанные часы. Пропал самолет, за ним — пароход; к полудню пропали, упали и потянулись на грунт все самолеты и пароходы. И началось.
— Когда-то это был санитарный поезд, — зачем-то сказал Литвиненко.
— А теперь труповозка! — радостно подхватил Жамов.
— Некросостав, — поправил его товарищ Жулев. — Некропередвижка.
Жамов согласился:
— Правильно. Передвижка. К нам в поселок, когда я пацаном был, такая ездила, только она кино привозила. И еще художники были, тоже передвигались.
— Всему свое время, — философски ответил Жулев.
Однополчанин, состроив задумчивую мину, затянул:
— На всю оставшуюся жизнь… нам хватит ладана и свечек…
Литвиненко стало неприятно. Вспомнив о своем звании, он глухо уронил:
— Отставить клоунаду…
— Есть отставить, — быстро ответил Жамов. — Только военная песня все равно нужна, товарищ полковник. Пусть не эта, есть и другие подходящие. Вот еще можно такую: куда от меня сбежала последняя электричка…
— Эта не сбежит, — усмехнулся Жулев. — И от нее тоже хрен убежишь.
Литвиненко пресек самодеятельность и нарочито громко прочел:
— Первый вагон! Морозильная камера…
Жамов, приподнявшись на цыпочки, с готовностью дернул щеколду, выставил лесенку. Полковник подобрал полы шинели и не без труда полез внутрь. Холодильные установки, как он сразу определил, пребывали в плачевном состоянии — достаточно было взглянуть на торчащие провода.
— Ставьте галочку, товарищ полковник, — посоветовали сзади. — Им все равно работать не на чем.
— Ставьте палочку, — это, конечно, был Жамов.
Литвиненко вздохнул. Помимо искалеченных установок принимать в вагоне номер один было нечего. Голый дощатый пол, чуть просевший в предчувствии складирования.
— Нечего тут смотреть, товарищ полковник. Пойдемте в ритуальный вагон, вот где красота.
Представления воинов о прекрасном ограничивались ритуалами. То, что им казалось прекрасным, стояло в культурном наследии человечества особняком. Их восторг, однако, был хорошо понятен полковнику. Литвиненко пришел в удивление при виде красного дерева, которым была обшита внутренность второго вагона. Поразила его и матово-черная подающая платформа, с которой тела соскальзывали в круглое окно, дышавшее холодом, — дальше был тамбур, куда посторонних уже не пускали. И многоразового использования гроб, почти саркофаг, который непонятно как уцелел среди тотального расхищения.
Жулев громко высморкался.
— Небось, товарищ полковник, нам в таком не понежиться.
В его голосе звучала искренняя зависть.
Литвиненко задумчиво потер кончик носа, не умея сообразить, как лучше — иметь ли первым вагоном морозильную камеру или поменять ее местами с вагоном прощальным. По завершении ритуала естественно сразу пристроить виновника торжества к топливному делу, но… Полковник не знал достоверно, что лучше горит. В конце концов он решил, что это не так уж и важно — принимать ли дрова с постамента, брать ли из штабеля. Он вычеркнул вагон номер два и вопросительно взглянул на солдат.
— Третий вагон, — напомнил он. — Нам туда. Снять головные уборы.
Он обнажил голову и проследовал в тамбур, Жулев и Жамов беспрекословно сделали то же. На входе Литвиненко перекрестился, дернул на себя дверь. Пахнуло стоялой вечностью. Третий вагон представлял собой передвижной храм, разделенный на четыре отсека по числу основных религий.
Жулев перекрестился, а Жамов не стал.
— Вы атеист? — спросил у него Литвиненко.
— Агностик, — поправил тот.
3
…Кто-то попер из киота икону; вероятно, недостача не исчерпывалась ею, полковник не понимал и половины из инвентарной описи. Он вздохнул, предвидя трения. Он не жаловал духовенства, хотя преклонный возраст сделал его более осторожным в вопросе веры и неверия.
Огорченный третьим вагоном, Литвиненко насупился и перешел в четвертый, будучи чернее тучи. В четвертом вагоне разместился ресторан.
Это был единственный вагон, который охраняли изнутри. При виде полковника из-за столика неторопливо поднялись три солдата. Двое были сержантами, третий — ефрейтор. Новенькие позолоченные венки на лацканах шинели указывали на принадлежность к ритуальным войскам. Троица, как умела, вытянулась по стойке «смирно»; военной выправки не было ни у одного. Не кадровый состав, призвали с печки… Литвиненко, морщась, махнул им рукой.
Все трое были вооружены до зубов; ефрейтор перетаптывался, отягощенный гранатометом. Полковник потянул носом, ловя спиртовую составляющую: она была.
— Пересчитайте водку, — скомандовал он своим спутникам.
Жулев и Жамов, выказывая искреннее усердие ворья, на сей раз чудом ни к чему не причастного, рванулись к ящикам, составленным в штабеля.
Один из сержантов кашлянул.
— Товарищ полковник, — пробасил он тревожно. — Когда подали паровоз, тряхнуло маленько…
— Под трибунал пойдете, — рассеянно бросил тот.
Жулев и Жамов сосредоточенно шевелили губами, стараясь не сбиться со счета. Ревизия затягивалась.
— Вы, никак, бутылки считаете? — раздраженно спросил Литвиненко.
— Как можно, товарищ полковник, — обиженно возразил Жулев. — Ящики…
— Мы уже посчитали, — подхватил Жамов. — Сейчас проверяем себя. Четырех не хватает.
Литвиненко, ни слова не говоря, расстегнул кобуру. Жулев и Жамов, не дожидаясь приказа, вскинули автоматы. Однако сержанты не замедлили сделать то же самое, а ефрейтор взялся за ремень гранатомета, и зеленая труба за его плечами качнулась. Она была сплошь исцарапана, исписана нецензурными словами. Самыми пристойными были два: «Привет, гады!».