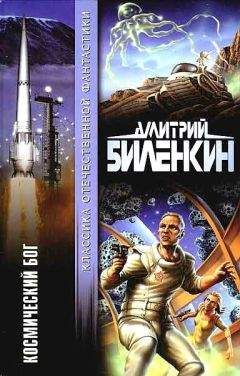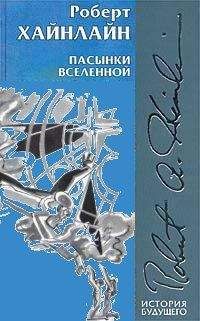Папа слушал Гри молча, папа умел слушать — он не задавал наводящих вопросов, не ловил на слове, не всплескивал руками и не качал сокрушенно головой. Иногда у Гри появлялось странное чувство: папа вроде здесь, перед ним, и вдруг исчезает. То есть не совсем исчезает, а как бы утрачивает привычное лицо и становится всем, что окружает Гри.
Самое удивительное, при этом Гри все-таки очень отчетливо видел папу, сидящего в кресле.
— Папа, — сказал Гри, — а златка, которую мы нашли, жива?
Папа улыбнулся. Теперь Гри уже точно знал — папа улыбается на самом деле. Но Гри не заметил своей обмолвки, а отец заметил и не поправил сына, потому что с минуту назад, когда Гри рассказывал о роще, он был там уже не один, как днем, а вдвоем с отцом, и златку они нашли тоже вдвоем.
А перед этим отец явственно услышал напряженное, как у электромотора-лилипута, жужжание. И оба они, отец и сын, вскинули головы одновременно.
Потом Гри, не спрашивая разрешения, бросился к подоконнику, схватил посудину со златкой и поставил ее перед папой.
— Смотри, папа, какие у нее гибкие лапки. И брюшко мягкое. А помнишь, когда мы бросили ее муравьям, она даже не пыталась бежать. Почему? Значит, она в самом деле мертвая?
Папа вдруг рассмеялся. Три тоже рассмеялся — он всегда смеялся заодно с папой.
— Нет, — сказал папа, — златка не мертва и не жива: она в промежуточном состоянии. Оса-церцерис своим ядом парализовала ее нервную систему, но одновременно предохранила златкино тело от гниения. Законсервировала, так сказать, блюдо для своих личинок. Но минимум жизненных функций у златки сохраняется. А в общем это все-таки консервы, не больше. Кстати, теперь люди консервируют свою пищу по рецепту церцерис. Даже термин такой появился — церцерирование.
Папа опять рассмеялся. Гри тоже, но в этот раз Гри перестал смеяться много раньше и стал требовать, чтобы и пана успокоился. Гри потянул папу за рукав раз десять, прежде чем добился толку. Наконец папа утих, хлопнул Гри по плечу и произнес слова, за которые ему всегда доставалось от мамы:
— Валяй, сынок!
Но на следующий вопрос Гри папа не мог ответить. Он прямо так и сказал: не могу, и никто, пожалуй, этого не может. Поразительно, но факт — люди, как и двести лет назад, не знают, почему именно златку выбирает церцерис, как отличает она златку от других жуков, хотя сами златки потрясающе различаются — златка дубовая нисколько не похожа на тополевую, а золото-ямчатая и вовсе белая ворона в семействе златок.
Гри слушал очень внимательно, а затем, когда папа неожиданно смолк, задумавшись о чем-то далеком — это по его глазам было видно, что о далеком, — спросил, могла ли бы Энна Андреевна объяснить поведение церцерис-златкоубийцы.
— Сомневаюсь, — ответил папа.
“Сомневаюсь”, — повторил папа, а Гри отчетливо слышал голос учительницы, которая втолковывала ему, Гри, что оса руководствуется своим инстинктом, и этого сегодня вполне достаточно, а исчерпывающий ответ он получит в седьмом классе на уроках биокибернетики и парапсихологии.
Папа все еще думал о чем-то своем далеком и, наверное, поэтому не обратил внимания на слова Гри: “Я не хочу в школу”.
И тогда Гри еще раз сказал:
— Папа, я не пойду в школу.
Теперь папа услышал слова Гри и опять, как прошлым летом, почти год назад, попросил Гри не молоть чепухи.
Но Гри в третий раз повторил слова про школу, и папа уже ничего не говорил о молотьбе чепухи, а очень строго сказал, что завтра они пойдут в школу вдвоем.
Потом папа задел бокал, бокал полетел на пол, и ромбовидные его ножки откололись. Мама была раздражена до крайности, потому что хрустальные бокалы с ромбовидными ножками ее любимые, а кроме того, она еще раз убедилась, как велики силы хаоса и энтропии.
— Да, — сказал папа, — ты совершенно права. Наши предки, с их примитивным образным мышлением, говорили об этом так: пришла беда, отворяй ворота.
— О, тебе всегда очень весело!
— Не всегда, — возразил папа, улыбаясь, и поцеловал маму в обе щеки, оба глаза, оба уха и лоб, потому что испоим веков семь — священное число.
Гри всегда безошибочно определял, хорошее или дурное настроение у Энны Андреевны. А сегодня впервые Гри растерялся: учительница, как обычно, была очень вежлива, очень предупредительна, один раз даже назвала его “мой мальчик”, но все это было чуждо тому привычному, устоявшемуся, повторявшемуся изо дня в день. Энна Андреевна уже знала, что Гри прогулял уроки — папа позвонил ей еще вчера, чтобы она не беспокоилась, — и к тому же знала, что Гри не хочет учиться в школе. Гри не догадался о папином разговоре с учительницей. Но что могло перемениться, если бы он догадался?
Ведь ничего обидного в том, что ему, Гри, не нравится школа, для Энны Андреевны не было. На ее месте могла быть другая учительница, и все равно Гри не захотел бы идти в школу.
Разве Гри не нравится Энна Андреевна? Нет, она обыкновенная, как все люди, и для Гри она такая же, как все другие люди. Конечно, Ила и Лана восхищаются ею, потому что она — “такая особенная, особенная, самая лучшая”, а у Гри эти телячьи восторги вызывают только отвращение. Но сама-то Энна Андреевна здесь ни при чем.
Нет, дело совсем в другом — просто на уроках Гри скучно. Почему именно скучно, Гри не может объяснить. Ила говорит, что в школе очень интересно: сегодня не знаешь — завтра узнаешь, сегодня не понимаешь — завтра все поймешь.
А у Гри почему-то все как раз наоборот: сегодня — понятно, а завтра — нет. И самое удивительное, по-настоящему хорошо Гри чувствует себя тогда, когда понятное вдруг оказывается непонятным, а простое — таким сложным, таким запутанным, что даже папа объяснить не может не только ему, Гри, но и самому себе. И кроме того, на уроках почти никогда не говорят о главном — о том главном, чем постоянно занята голова Гри. Когда Гри задает вопросы, Энна Андреевна обязательно отсылает его к будущему: “Это изучают в пятом классе, это — в седьмом, а это — в десятом. Наука, Гри, — это прежде всего система, и в основе ее — движение от простого к сложному”.
Папа тоже так говорит: наука — это система. Но то ли голос у папы другой, то ли глаза другие, но эти же слова, когда произносит их папа, звучат иначе — и мир вокруг не тускнеет.
— Дети, — сказала Энна Андреевна, когда прозвонил звонок, — Гри вчера прогулял уроки. Мы не будем сейчас говорить, хорошо это или плохо: послушаем сначала Гри.
— Ну, — начал Гри, — я встал, сделал зарядку, умылся, позавтракал и в четверть девятого вышел из дому. До школы мне пять минут ходьбы, но вдруг я увидел трамвай, который идет к морю…
— А разве ты раньше его никогда не видел? А если бы тебе встретился самолет, который отправляется в Африку или Патагонию?