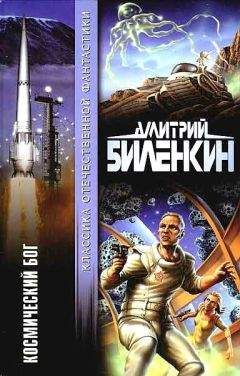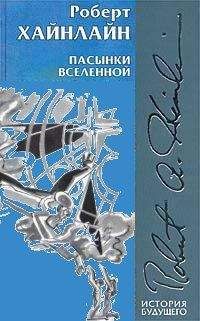В комнате было очень тихо, и тишину эту можно было слушать, как ту, которая была в роще. Гри прислушался — в Элу Большом что-то монотонно потрескивало и через каждые пятнадцать секунд щелкало, вроде резак отсекал пересохшую хитиновую пленку. Потом раздался всплеск, и Элу Большой затцикал — точь-в-точь как восхищенный Део. Гри рассмеялся и сказал Элу Большому, что тцикать он умеет, а вот разговаривать с ним, как с Део, все равно нельзя. Део можно даже рассказать про вчерашний день, и он бы наверняка все понял — и глаза у него стали бы веселые, и трещал бы он в своем дельфиньем восторге, как зуммер, который забыли отключить.
— Тц! Тц! Ззззз! — затрещал Элу.
— Ну, хорошо, — сказал примирительно Гри, — все равно ведь надо рассказывать кому-нибудь, а кроме тебя, здесь некому меня слушать.
И Гри снова рассказал про удивительный вчерашний день и ни разу при этом не запнулся — ни разу до того самого места, когда вдруг ни с того, ни с сего показалось очень важным установить, куда же именно жалит церцерис свою жертву. “Если в надкрылья, то, наверное, ничего не получится, — рассуждал вслух Гри, — потому что они хитиновые. Значит, в мягкое какое-нибудь место. Но откуда оса знает, что именно в мягкое место надо?” Отвратительное беспокойство наседало на Гри с устрашающей быстротой: сначала Гри прислонился к окну — внизу, в школьном саду, играли дети, — потом стал шагать по комнате, потом привязался к Элу Большому, требуя от него ответа, и в конце концов обозвал его болваном и вдобавок хлопнул еще ладонью по зеленому глазу.
Элу молчал, но почти одновременно с ударом, который нанес ему Гри, отворилась дверь — вошли Гор Максович и папа.
— Что же это вы, Григорий Динович, — всплеснул руками старик, — прямо как йети необразованный: не получается, так срываете свой гнев на том, что подвернется под руку. Согласитесь, Григорий Динович, так нельзя: Элу этого не заслужил. Вы слышите, как он, бедняга, вздыхает?
Элу Большой вздохнул дважды — сначала долго и тяжело, особенно на вдохе, а потом коротко с резким выдохом.
Всматриваясь в Гри своими синими, со смешинкой, глазами, Гор Максович сказал, что пора заняться письменной работой. В дверях старик еще раз обернулся и, пригрозив пальцем, напомнил: ярость и гневливость не украшают истинного мужа.
Работу Гри закончил к полудню — через два часа с четвертью. Когда пробило двенадцать, Гри удивился — время было другим, с иной протяженностью.
— Как будто вовсе не было времени, — сказал он папе и Гору Максовичу.
— А может, его и на самом деле не было? — спросил старик серьезно, и в нынешний раз Гри показалось, что он нисколько не шутит.
Гор Максович аккуратно сложил листки, исписанные Гри, и торжественно отворил перед ним дверь:
— До тринадцати часов, Григорий Динович, вы свободны. Будь у меня столько времени, я бы первую половину его уделил бассейну, а вторую — завтраку и десятиминутной прогулке.
— Можно, папа? — неуверенно спросил мальчик.
— Гри, — пожал плечами отец, — здесь распоряжается Гор Максович. И если бы Гор Максович рекомендовал мне отправиться в бассейн, я не стал бы терять попусту времени.
Спустя минуту Гри на третьей скорости уже пересекал школьный сад.
— Ну, а теперь посмотрим, что же нам скажет Элу Большой, — сказал старик.
Включив экран, Гор Максович сначала забормотал, потом пустил каскад гм-гм-гм, модулируя его от невнятного хмыканья до безукоризненной артикуляции, и произнес трубным голосом электронного информатора:
— Итак, дорогой Дин Григорьевич, за вчерашний день ваш сын выдал двести восемьдесят единиц информации по шкале Розова-Анжу вместо шестидесяти, положенных учебной программой. Это по устному рассказу. А теперь посмотрим, что даст нам письменный вариант. Ага, ага, ага… двести сорок. Это без графологического анализа. Подождем минутку, одну минутку… так, еще шестьдесят. Итого, стало быть, триста.
— Да. — Дин Григорьевич торопливо барабанил пальцами по панели, — но совершенно очевидно, что устный рассказ текстуально не уступает письменному и уже хотя бы поэтому содержит больше информации.
— Вот именно, — подхватил старик, — но не в чистом ее, так сказать, обнаженном виде, а в скрытых эмоциональных формах, представленных исключительно в модуляциях голоса и пантомиме. Голосом, глазами, руками человек досказывает то, что не удалось облечь в слово. А Элу Большой этой информации не учитывает. Для Элу существует сигнал только в слове. Между самым одаренным мимом и каменной бабой для Элу нет никакой разницы.
Пересекая комнату по диагонали, Дин Григорьевич всякий раз непроизвольно останавливался посредине — в том месте, где диагонали расходились. Потом он решительно направился к окну и минут пятнадцать, не отрываясь, смотрел вниз.
В школьном саду играли ребята — как сто и двести лет назад, они рядились в индейцев, бегали наперегонки, восторженно визжа при успехе и хмурясь при неудачах. Что мог сказать об этих ребятах Элу Большой? Ничего: по Злу, эти дети не были носителями информации.
Потом вдруг среди играющих в саду ребят появился Гри.
Он мчался вприпрыжку, имитируя бег лошади. Дин Григорьевич улыбался. Он думал о том, что информация, которую выдал вчера и сегодня этот мальчик, индуцировала в мозгу у него, отца, мысль-лавину. Кто знает, может, именно в ней выкристаллизуется конструкция нового Элу. Об этих мысль-лавинах впервые заговорил в прошлом веке математик Тьюринг. Он полагал их исключительным свойством одаренных людей. Но, возможно, Тьюринг ошибался? Наверняка ошибался; во всяком случае, временная характеристика этой функции совершенно необходима: дети-то почти всегда мыслят творчески. Тысячи детских “почему”, изнуряющих взрослого человека, это и есть цепная реакция, мысль-лавина Тьюринга.
Почему же мы не доверяем детям? Что происходит, когда дети вырастают, с этими их мысль-лавинами — исчезают они спонтанно или подавляются извне? Альберт Эйнштейн признавался, что он чересчур долго был ребенком. Иными словами, то, что другими решено было уже окончательно и бесповоротно, для него оставалось загадкой. И в этом его первое преимущество: когда все ясно, нет нужды открывать, нет нужды познавать.
Однако где-то ведь надо остановиться — нельзя безоговорочно полагаться на мироощущение детей. Лень, праздность, легкомыслие, пустое фантазерство — это тоже дети. Но что такое, в сущности, лень? Если отбросить всякие нравственные приговоры, то лень — просто-напросто нежелание системы функционировать в заданном направлении. Но полноценное функционирование — естественное состояние всякой нормальной самоорганизующейся системы. Почему же она сопротивляется? Неужели она инстинктивно оберегает истинное свое “я”, которое надобно раскрыть? Стало быть…