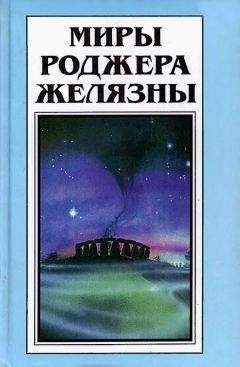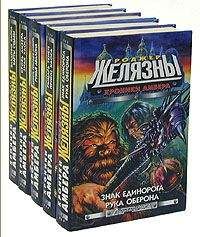Стальные ребра, покрытые белой эмалью,— та ужасная поза! — руки скелетов в вечном чувственном объятии и исполненные похоти улыбки на лицах, лишенных плоти.
На бронзовом пьедестале высечена простая надпись: «Поцелуй Родена».
И тут до меня донесся голос из зала:
— Вот оно. Делайте с этим что хотите — но никогда не подпускайте меня к этому близко!
Невольные аплодисменты разбили тишину, смешиваясь со вздохами и тихими комментариями.
В тот день я уволился еще раз, на этот раз окончательно.
Как чувствует себя музыка, когда ее оркеструют? Поэма, когда ее пишут? Живопись...
Эти мысли витали в моем мозгу, но это были его мысли.
Я ощутил шероховатые и осторожные, словно кошачий язычок, прикосновения его кисти, обводящей мои щеки, затемняющей бороду.
Он коснулся моих глаз, и они открылись. Сначала левый, потом — правый, мгновенно.
Сознание включилось сразу и четко — никакого плывущего тумана, как это бывает при внезапном пробуждении. Я тоже пристально вглядывался в его темные глаза, сосредоточившиеся на моем лице. Он держал кисть бережно и мягко, словно перо, и ноготь его большого пальца отливал радужным спектром присохших красок.
Он стоял, любуясь мной.
— Да! — вздохнул он наконец.— Они правы! Вот — линии вины, стыда, ужаса, и все они сходятся у этих властно притягивающих глаз. Но взгляд их прям и тверд, и они не боятся света,— продолжал он,— Они не дрогнут! И в этом взоре — вся дерзость и боль Люцифера. Он не отведет этих глаз, когда придет время обмакнуть хлеб в вино... Бороду надо сделать покраснее,— добавил он.
— Но ненамного,— сказал я.
Он прищурился:
— Хотя и не слишком.
Он нежно дунул на мое лицо, затем закрыл меня занавесом.
«Сеанс через пятнадцать минут, — подумал он.— Придется прерваться».
Он мерил шагами студию здесь же, рядом. Я почувствовал, как он закуривает.
— Миньон придет в десять.
— Миньон сейчас придет,— сказал я.
— Да. Я покажу тебя ей. Ей нравятся картины, а эта — лучшее из всего, что мне до сих пор удавалось. Она не подозревает, что я способен на такое. Я покажу ей это. Она, конечно, не разбирается в искусстве...
— Ода.
Я услышал, как в дверь постучали. Он впустил ее. Я почувствовал, что он возбужден.
— Вы всегда приходите вовремя,— сказал он.
Она засмеялась, и смех ее прозвучал мелодично, словно перезвон дорогих часов.
— Всегда,— сказала она,— и до тех пор, пока портрет не будет закончен и я не смогу взглянуть на него. Я очень трилежна.
«Она уже улыбается так, словно глядит с портрета,— размышлял он, вешая ее пальто.— Сейчас она сидит в темном кресле. Темном, как ее волосы. Зеленый твидовый костюм и серебряная брошь. Почему она не надела бриллиантов? Они ведь у нее есть».
— А где бриллианты? — спросил я.
— А где бриллианты?
— Что? A-а, моя брошь...— Она коснулась ее, бросив взгляд на свою юную грудь.— Вы ведь еще не писали портретов до сих пор, не так ли? Я же позирую сейчас для уютного домашнего портрета, который будет висеть в гостиной у камина, а не для иллюстрации рассказика о фамильном состоянии, украшающего обложку модного журнала. Поэтому я и решила надеть что-нибудь простое.
Она опять улыбается. Насмехается надо мной?
— А что это у вас там закрыто покрывалом?
Она подошла к холсту.
— О,— сказал он скромно, в радостном трепещущем предвкушении,— Это, право же, пустяк.
— Позвольте мне взглянуть.
— Прошу вас.
Зашуршал занавес, прикрывавший холст, и я взглянул на женщину.
— Господи! — воскликнула она.— «Последняя вечеря» Питера Хелзи. Боже, да ведь это прекрасно.— Она отодвинулась еще дальше, пристально всматриваясь.— Он глядит так, словно вот-вот выйдет из рамы и еще рад предаст Его.
— Это так,— скромно сказал я.
— Пожалуй, верно,— заметил Питер.— Довольно занятный экземпляр.
— Да,— сказала она.— Я никогда раньше не видела столь точно подобранных красок. Глубина, переплетение тонов — он весьма необычен.
— Он и должен быть таким, — ответил художник.— Он сошел к нам со звезд.
— Со звезд? — недоуменно переспросила она.— Что вы хотите этим сказать?
— Пигмент, послуживший для его создания, я перетер из упавшего метеорита, который обнаружил нынешним летом. Мне сразу же бросилась в глаза краснота камня; к тому же оказалось, что размеры позволяют засунуть его в багажник.
Она изучала мое лицо на холсте.
— Для столь прекрасной картины вы создали ее невероятно быстро.
— Нет, какое-то время я носил это в себе,— сказал он.— Я ждал, пока у меня сложится совершенно четкое представление о том, каким он должен быть. Этот красный камень подсказал мне решение — это случилось как раз на той неделе, когда вы начали позировать мне. Стоило мне только начать, и дальше он фактически нарисовал себя сам.
— Он смотрит так, будто всем этим наслаждается,— засмеялась она.
— Я нисколько не возражаю...
— Сомневаюсь, что и он имеет что-то против.
— ...Так как я — тот самый подкидыш, которого боги запросто обменяли на кусок камня, понадобившегося им, чтобы ставить на него ноги.
— Кто знает, откуда он взялся?
Он закрыл мне лицо, взмахнув занавесом, точно плащом матадора.
— Начнем?
— Пожалуй.
Она вернулась к креслу.
Через некоторое время он попытался прочесть то, что светилось в ее глазах.
— Возьми ее. Она этого хочет.
Он положил кисть, пристально посмотрел на женщину, на свою работу — и снова на женщину.
Потом опять взялся за кисть.
— Решайся. Что ты теряешь? Подумай о том, что приобретешь. Это серебро на ее груди может обратиться в бриллианты. Думай о ее груди, думай о бриллиантах.
Он положил кисть.
— Что случилось?
— Какая-то внезапная усталость. Сигарета — и я готов продолжить.
Она поднялась с кресла и закинула руки за голову.
— Хотите, я подогрею кофе?
Он посмотрел туда, куда она указывала взглядом,— на стоящий в углу поднос с остывшим напитком.
— Нет, благодарю. Сигарету?
— Спасибо.
Его рука дрожала.
Она подумает, что это от усталости.
— У вас дрожит рука.
— Наверное, от усталости.
Она присела на кровать, стоящую здесь же, в студии. Он медленно опустился рядом и прилег.
— Здесь жарко.
— Да.
Он взял ее за руку:
— Вы тоже дрожите.
— Нервы. Delirium Tremens. Кто его знает?
Он поднес ее руку к губам:
— Я люблю вас.
Ее глаза испуганно расширились, губы дрогнули, рот приоткрылся.