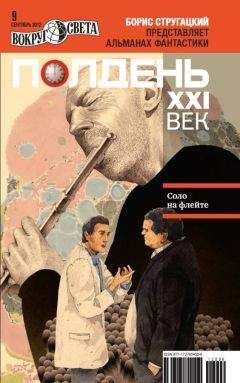— Ну, стучите в свой отдел, — равнодушно перебил его Литвиненко, отворачиваясь.
— Я делопроизводитель, — лейтенант, перезрелый для своих погон, шагнул вперед, не дожидаясь, пока к нему обратятся. — Регистратор. Бухгалтерия, 1C, Эксель, Ворд. Моя фамилия Викентьев.
Полковник постоял перед ним в раздумье.
— Вам сдачу есть чем давать? — осведомился он. Руководство не залаживалось. Навыки сохранились, но руки дрожали и память рассыпалась, и было все равно. Близок локоть, да не укусишь, да и не очень хотелось.
— Товарищ полковник, — послышалось сбоку. — Повернитесь, пожалуйста, чуть-чуть в профиль. Извините.
Литвиненко повернулся и увидел седьмого члена звена, только что подоспевшего и в свое оправдание уже приступившего к работе. Оператор с капитанскими погонами, он же кинокорреспондент, снимал процедуру знакомства на видеокамеру.
— Капитан Лабешников, — добавил оператор, не отрываясь от видоискателя. — Стойте, как стоите, товарищ полковник. Очень хорошо. Не шевелитесь.
Сам он двигался: шел мелкими приставными шагами в опасной близости от края платформы.
6
Православного батюшку звали Лавром; имени муллы никто не мог запомнить, и он не настаивал, вообще ощущая себя не в своей тарелке и не надеясь на скорую встречу с единоверцами — во всяком случае, не ждал, что покойников от ислама вдруг наберется столько, что он вознесется над остальными конфессиями.
— Аллах милостив, — повторял он по случаю и без случая, разумея при этом, что они, высочайшей милостью, как-нибудь доберутся до Казани.
Мулла не возражал, чтобы его называли Керимом.
— Керим, Керим, — отец Лавр отечески-сочувственно трепал его по плечу. — Выйдет тебе Казань, мне знак был…
В подлинном имени муллы действительно содержалось нечто близкое «Кериму» — в качестве составляющей, равноправно соседствовавшей с другими морфемами.
Бен-Хаим был крепко выпивши. Он держался при этом уверенно и был словно наэлектризован: похаживал, готовый вот-вот перейти на цыпочки, и время от времени возбужденно взмахивал рукой. Губы его без устали шевелились в бороде, то и дело складываясь в саркастическую улыбку.
— Где ты, Иегуда, так набрался? — спрашивал Лавр; они были старые знакомцы.
— Чья бы мычала, — улыбался тот. — Чья бы мычала, Лавру-ша. — И зловеще посверкивал очками.
— Боишься, небось?
— Ошибаешься — радуюсь. Ликую. Давид пел и плясал перед Господом, и я пою, как умею.
— Так запишись в самодеятельность, — подначивал его Лавр. — Вон и комиссар стоит. Попросись к нему в агитбригаду.
Оскалясь, он обернулся на буддиста, приглашая коллегу к участию. Но лама стоял с непроницаемым лицом. В ниспадающих оранжевых одеждах обитал не ожидаемый бурят, а человек с типичной славянской внешностью — правда, налысо выбритый. Лама Ладошин был уже мужчина в годах, с солидным духовным опытом. В юности он потерпел за веру и посидел в сумасшедшем доме как диссидент вообще; Бог творит добро, как захочет, в том числе через зло, и госбезопасность невольно способствовала просветлению Ладошина. Он допустил в свое сердце Будду, и Будда, по малости сердца и по своей великости, не поместился там целиком, но до ламы Ладошин все же дорос.
Лама безмолвствовал, но держался дружелюбно.
Когда его пригласили участвовать в железнодорожной миссии, он сразу согласился и этим удивил приглашающую сторону.
«Не ожидали, признаться, — сказали ему. — Вы совсем не боитесь ехать? Ведь лично у вас работы будет не очень много…»
Приглашатели намекали, что поезд навряд ли доедет до очагов отечественного буддизма, но лама Ладошин загадочно улыбнулся и ответил, что не хочет уклоняться от пути.
Ему напомнили, что это — с высокой вероятностью — последний путь.
«Тем более», — упорствовал лама.
Вообще, все служители культов откликнулись на это приглашение с готовностью. Да и миряне тоже. В городе свирепствовал мор, а из провинции — крайне редко — поступали противоречивые вести. Связь почти не работала; время от времени кто-то в глубинке просил о помощи, а кто-то, напротив, объявлял себя наместником царя и бога, заклиная отныне не вмешиваться в его самостийные упражнения, ибо иначе всем будет плохо.
Эти разброд и шатания наводили на мысль, что в глубинке не лучше. Но не имея возможности сопоставить, многие полагали, что на просторах заведомо безопаснее, чем в каменных джунглях. Там веет ветер и растет ковыль, там здоровее. Но ехать самостоятельно решались лишь единицы — во-первых, не на чем; во-вторых, не пускают, даже выставили кордоны, потому что в городе тоже много дел; в третьих, опять же, никто не знал наверняка, не выйдет ли большей беды.
— Так, что тут у нас? — к духовным особам подошел Литвиненко.
Ничего, кроме этого вопроса, поставленного слишком широко, ему в голову не пришло. Он чувствовал, что в беседе с этими людьми нельзя изъясняться так же, как он только что говорил с офицерами. Поэтому полковник непроизвольно умалил духовных особ до проказливых ребятишек, которые если даже и тихо себе играют, то всякое могут вытворить, за ними нужен глаз, и обратиться к ним лучше неопределенно и строго. Он и себя, подобно воспитателю, на время как бы низвел до их уровня, употребив личное местоимение, множественное число.
Формально они подчинялись полковнику, но он не находил за собой власти над ними.
«Велеть им построиться?» — пронеслась в голове глупая мысль.
— Построились, — вострубил отец Лавр.
Лама Ладошин стоял столбом, и остальные приняли его за точку отсчета. Бен-Хаим взял шляпу за широкие поля, натянул потуже и смиренно встал рядом; Керим присоединился к нему, сложив руки в жесте, который полковник истолковал как благочестивый. Отец Лавр занял место на левом фланге, откуда взирал на полковника с серьезной миной, из-под зонта.
— Вольно, вольно, — пробормотал Литвиненко. Он откашлялся, не зная, что сказать. — Спасибо за доблесть, — выпалил он вдруг и понял, что правильные слова нашлись сами собой. Он заговорил доверительно: — Не многие, знаете ли… — Полковник кивнул на офицеров: — Эти не в счет, они люди военные. Им приказали. Нет, они люди наверняка отважные, я ничего… Но ваше добровольное решение… оно выше всяких похвал. В моей молодости лишь коммунисты…
— Негоже сбрасывать крест, — скромно ответил отец Лавр. — Взялся — неси.
— Сразу и крест, — покачал головой ребби.
Мулла кашлянул:
— Сейчас самое время обратить человеческие сердца к Аллаху. Население беззащитно перед высшим промыслом, шелуха цивилизации осыпалась. Наш час наступил…