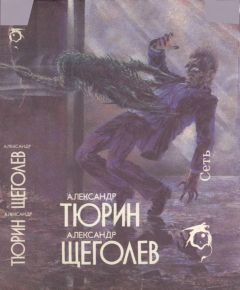– Важки пытання,[59] пане, дуже важки, алэ видповим,[60] як сам розумию. Що кров льется, то так, алэ ж на то и вийна… злобы дуже богато накопылося. Пид Брацлавом – чуялы? – ляхы узятых в полон на палю[61] садылы, доки мы з Иван Иванычем нэ пидийшлы; а Била Церква ж була вже писля Брацлава… Цэ вже, як бы мовыты, помста[62] панам.
Не утерпел, перебил. Однако мужик не стушевался, продолжал твердо, словно бы даже с некоей дерзостью в голосе.
– Воны – нас, мы – их, зараз вы – знову нас, потим гетьман повэрнеться, тай вам тим же боком видплатыть. Вийна! а що до воли, так, напрыклад:[63] навищо нам така воля, колы знову паны звирху? Ни, паночку ласкавый! Колы вжэ так, то нэ трэба ниякых панив, розумиете? Гетьман писля Билой Церквы брыгаду нашу тим до себе и пэрэзвав, що очи видкрыв циею думкою… А Иван Иваныча Перша Мужыцька усиею громадою молыла: пишлы разом з намы! бо поважалы мы його, дужэ вэлыке шанування[64] до нього малы… Сам видмовывся.[65]
При крепнущем свете утра, стекающем в комнату сквозь вчера вымытое стекло, видно стало, что хитроватые глазки гайдамака очень спокойны и даже – откуда? – исполнены некоего непонятного генералу достоинства.
– И остання думка моя: тому и гетьман зъявывся, що – хочь рубаты мэнэ накажыте! – ризни у нас стежки. Ризни! Дидусь мий у Колиивщини[66] брав участь, пры Зализняке ходыв, так вин аж до смертонькы розповидав, як генэралы москальськи поперше хлопа на пана пиднялы, а потим тих же хлопив ляхам зрадылы. Нэмае виры…
– Афанасий Фомич… А ну как разобьют нас… так придет же с севера царский генерал, опять вас покрепачит?
Нарочно употребил малоросское словечко; понимал: это вот «покрепачит» особо достанет мужика, проймет до самого нутра. Они ж как дети, дальше двух шагов не видят. Спросил, с интересом следя за лицом гайдамака. Но там – все та же тихая усмешка.
– А нэхай прыйде… зустринэмо. Краще, ниж вас, зустринэмо…
Умолк. Медленно пожевал серовато-бескровные губы, проглядывающие сквозь вислые полуседые усы. Опустил глаза, словно бы изучая огромные свои руки, потрескавшиеся от холода, заскорузлые, изборожденные вздувшимися узлами вен.
– Гарно зустринэмо.
Ясно стало: окончен допрос. Не о чем более спрашивать.
В комнате повисло нехорошее тяжеловатое молчание; мужик все так же не отрывал глаз от пола, генерал смотрел сквозь него, размышляя. Наконец решился. Подошел к двери, распахнул. Готовно сунулись двое: татарин и ординарец; ордынец чуть впереди, дрожит, словно застоявшаяся лошадь, ноздри вздернуты в крутом изломе, в руке – сабля.
Не глядя на гололобого, Бестужев распорядился:
– Прапорщик, распорядитесь сего пленного в целости доставить на окраину, к балкам, и отпустить, вреда не причиняя…
Словно бы объясняясь – перед кем? – пояснил:
– Помилован за чрезвычайно ценные сведения, важность для грядущей баталии представляющие…
Повернулся к вставшему, напряженно мнущему шапчонку мужику.
– Прощай, Афанасий Фомич. Хорошего от тебя не услышал, разумного тоже. За правду, однако, благодарю. В другой раз только не попадись.
Сказал – словно перечеркнул; не глядя уже, не видя истового поклона, поймал, сверху вниз взглянув, волчий зрак татарина. Подумал секундно: сколько их там еще? Махнул рукой.
– Хватит. Только вот… слышь, Махметка? – не здесь уж…
С утра началось. Конная партия гайдамаков, числом до восьми десятков, сквозь балки прошла к предместным оврагам и начала было сечь караулы; смельчаков отогнали кременчугцы беглой пальбою, татары пошли вдогон и порубили с дюжину да еще пяток стрелами добыли. Впрочем, Щепилло, хоть и послал вестового с рапортом, особого значения вражьему экзерсису не придал; черкнул в несколько строк, будто о пустяке.
Бестужев же, прочитав, вскинулся:
– Иные посты предупредили?
– Не могу знать, ваше превосходительство! – бледнея от тона генеральского, признался вестовой.
– Ладно! – Михаил Петрович уже зашнуровывал бурку. – Подпоручик, поднять конвой!
Все утро, почти до полудня, промотался по аванпостам. День выдался мерзкий, вроде позавчерашнего, разве что без ветра. Шинели солдатские потемнели от влаги, на глазах исходили паром, кисло пованивали. И себя тоже, хоть и говорится, что свое не чуешь, нюхом ощущал генерал. Морщился брезгливо, стараясь не думать о животном.[67] Разнося впрок взводных, внутренне бранил Щепиллу. Страха Мишель не ведает, всем известно, но осторожность-то забывать не след! Ясно ведь: не просто так щупали посты хамы! Теперь лишь, после беседы ночной, отчетливо выявилось Бестужеву, кто противустоит ему, таясь до времени в буераках, какая сила; а ведь всерьез не принимал: скопище и скопище… стадо. Ныне в голове крутилось твердо сказанное: «Зустринэмо». Вот оно, наистрашнейшее; и нельзя не одолеть, ибо – пока что все же скопище! Но ежели не устоять, ежели разжует Кармалюка Мишку Бестужева, тогда – армией сие скопище обернется…
Тревожные размышления оборвала внезапная пальба. На юге, у тракта за балками, где утром пробирались гайдамаки. Сперва одиночные выстрелы, затем – неожиданно! – залп и другой; истошный визг татарина донесся через полгорода.
– У Щепиллы! – сорванным голосом выкрикнул Горбачевский, хотя и не следовало: все и без того уж поняли, где.
Ну вот! – подумалось легко, несколько даже радостно. Начинается. Знал наверняка, что не случайная перестрелка затеялась; по спокойной легкости в теле знал!.. предчувствия никогда еще не обманывали.
Не выдержал гетьман, двинулся; а не мог ведь подтянуть все силы за неполные двое суток; значит – лишь часть на город бросил. Неразумно. Хотя – мужик, что спрашивать? нет военного навыка, это не в Подолии с загонами поместья крушить…
Впрочем, тут же оборвал Бестужев злорадную мысль, мужик сей изрядно учиться умеет; еще с месяц назад бежал беспорядочно при встрече с регулярным отрядом, ныне же немалою армиею поди его останови. Одно ясней ясного: тут вот, в Катеринославе, все и решится. Не разойтись подобру, малой кровью; солдатиков для рейда в степь – мало, следует штурма дождаться и перемолоть гайдамаков. Однако же и у Кармалюки наверняка таков же расчет: сил не щадя, навалиться – и вырезать войско бестужевское; тогда он хозяином останется.
Что же выходит? Оба на гибель решились! – а выжить лишь одному выпадет. И об этом тоже мыслилось неторопливо, словно бы со стороны. Не позволял себе сомнений. Сгинет Кармалюка! А ежели… ну так что ж: мертвые сраму не имут.
– Коня.
Уселся в седле поплотнее, тронулся с места хлынцой,[68] на ходу переводя Абрека на крупную рысь; застоявшийся вороной птицей рванул, вмиг одолел пригорок. Балки предместные отсюда как на ладони. Да и весь фурштадт[69] тоже.