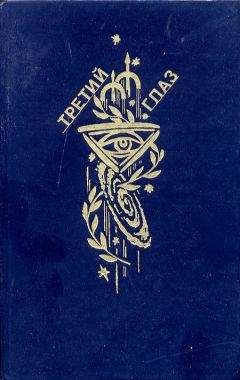— Так, — сказал Румата.
— Официально ее обвинили в шпионаже. Но… — Дон Рипат замялся и опустил глаза. — Я думаю… Мне кажется…
— Я понимаю, — сказал Румата.
Дон Рипат поднял на него виноватые глаза.
— Я был бессилен… — начал он.
— Это не ваше дело, — хрипло сказал Румата. Глаза дона Рипата снова стали оловянными. Румата кивнул ему и вернулся к столу. Барон доканчивал блюдо с фаршированными каракатицами.
— Эсторского! — сказал Румата. — И пусть принесут еще! — он откашлялся. — Будем веселиться. Будем, черт побери, веселиться…
…Когда Румата пришел в себя, он обнаружил, что стоит посреди обширного пустыря. Занимался серый рассвет, вдали сиплыми голосами орали петухи-часомеры. Каркали вороны, густо кружившиеся над какой-то неприятной кучей неподалеку, пахло сыростью и тленом. Туман в голове быстро рассеивался, наступало знакомое состояние пронзительной ясности и четкости восприятий, на языке приятно таяла мятная горечь. Сильно саднили пальцы правой руки. Румата поднес к глазам сжатый кулак. Кожа на косточках была ободрана, а в кулаке была зажата пустая ампула из-под каспарамида, могучего средства против алкогольного отравления, которым Земля предусмотрительно снабжала своих разведчиков на отсталых планетах. Видимо, уже здесь, на пустыре, перед тем как впасть в окончательно свинское состояние, он бессознательно, почти инстинктивно высыпал в рот все содержимое ампулы.
Места были знакомые — прямо впереди чернела башня сожженной обсерватории, а левее проступали в сумраке тонкие, как минареты, сторожевые вышки королевского дворца. Румата глубоко вдохнул сырой холодный воздух и направился домой.
Барон Пампа повеселился в эту ночь на славу. В сопровождении кучки безденежных донов, быстро теряющих человеческий облик, он совершил гигантское турне по арканарским кабакам, пропив все, вплоть до роскошного пояса, истребив неимоверное количество спиртного и закусок, учинив по дороге не менее восьми драк. Во всяком случае, Румата мог отчетливо вспомнить восемь драк, в которые он вмешивался, стараясь развести и не допустить смертоубийства. Дальнейшие его воспоминания тонули в тумане. Из этого тумана всплывали то хищные морды с ножами в зубах, то бессмысленно-горькое лицо последнего безденежного дона, которого барон Пампа пытался продать в рабство в порту, то разъяренный носатый ируканец, злобно требовавший, чтобы благородные доны отдали его лошадей…
Первое время он еще оставался разведчиком. Пил он наравне с бароном: ируканское, эсторское, соанское, арканарское, но перед каждой переменой вин украдкой клал под язык таблетку каспарамида. Он еще сохранял рассудительность и привычно отмечал скопления серых патрулей на перекрестках и у мостов, заставу конных варваров на соанской дороге, где барона наверняка бы пристрелили, если бы Румата не знал наречия варваров. Он отчетливо помнил, как поразила его мысль о том, что неподвижные ряды чудных солдат в длинных черных плащах с капюшонами, выстроенные перед Патриотической школой, — это монастырская дружина. При чем здесь церковь? — подумал он тогда. С каких это пор церковь в Арканаре вмешивается в светские дела?
Он пьянел медленно, но все-таки опьянел, как-то сразу, скачком; и когда в минуту просветления увидел перед собой разрубленный дубовый стол в совершенно незнакомой комнате, обнаженный меч в своей руке и рукоплещущих безденежных донов вокруг, то подумал было, что пора идти домой. Но было поздно. Волна бешенства и отвратительной, непристойной радости освобождения от всего человеческого уже захватила его. Он еще оставался землянином, разведчиком, наследником людей огня и железа, не щадивших себя и не дававших пощады во имя великой цели. Он не мог стать Руматой Эсторским, плотью от плоти двадцати поколений воинственных предков, прославленных грабежами и пьянством. Но он больше не был и коммунаром. У него больше не было обязанностей перед Экспериментом. Его заботили только обязанности перед самим собой. У него больше не было сомнений. Ему было ясно все, абсолютно все. Он точно знал, кто во всем виноват, и он точно знал, чего хочет: рубить наотмашь, предавать огню, сбрасывать с дворцовых ступеней на копья и вилы ревущей толпы…
Румата встрепенулся и вытащил из ножен мечи. Клинки были зазубрены, но чисты. Он помнил, что рубился с кем-то, но с кем? И чем все кончилось?…
…Коней они пропили. Безденежные доны куда-то исчезли. Румата — это он тоже помнил — приволок барона к себе домой. Пампа дон Бау был бодр, совершенно трезв и полон готовности продолжать веселье — просто он больше не мог стоять на ногах. Кроме того, он почему-то считал, что только что распрощался с милой баронессой и находится теперь в боевом походе против своего исконного врага барона Каску, обнаглевшего до последней степени. («Посудите сами, друг мой, этот негодяй родил из бедра шестипалого мальчишку и назвал его Пампой…») «Солнце заходит, — объявил он, глядя на гобелен, изображающий восход солнца. — Мы могли бы провеселиться всю эту ночь, благородные доны, но ратные подвиги требуют сна. Ни капли вина в походе. К тому же баронесса была бы недовольна».
Что? Постель? Какие постели в чистом поле? Наша постель — попона боевого коня! С этими словами он содрал со стены несчастный гобелен, завернулся в него головой и с грохотом рухнул в угол под светильником. Румата велел мальчику Уно поставить рядом с бароном ведро рассола и кадку с маринадами. У мальчишки было сердитое, заспанное лицо. «Во набрались-то, — ворчал он. — Глаза в разные стороны смотрят…» — «Молчи, дурак», сказал тогда Румата и… Что-то случилось потом. Что-то очень скверное, что погнало его через весь город на пустырь. Что-то очень, очень скверное, непростительное, стыдное…
Он вспомнил, когда уже подходил к дому, и, вспомнив, остановился.
…Отшвырнув Уно, он полез вверх по лестнице, распахнул дверь и ввалился к ней, как хозяин, и при свете ночника увидел белое лицо, огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих глазах — самого себя, шатающегося, с отвисшей слюнявой губой, с ободранными кулаками, в одежде, заляпанной дрянью, наглого и подлого хама голубых кровей, и этот взгляд швырнул его назад, на лестницу, вниз, в прихожую, за дверь, на темную улицу и дальше, дальше, дальше, как можно дальше…
Стиснув зубы и чувствуя, что все внутри оледенело и смерзлось, он тихонько отворил дверь и на цыпочках вошел в прихожую. В углу, подобно гигантскому морскому млекопитающему, сопел в мирном сне барон. «Кто здесь?» — воскликнул Уно, дремавший на скамье с арбалетом на коленях. «Тихо, — шепотом сказал Румата. — Пошли на кухню. Бочку воды, уксусу, новое платье, живо!»