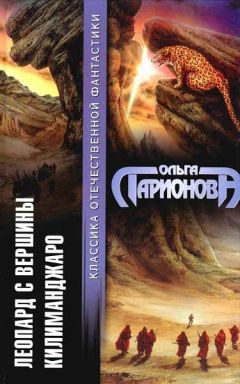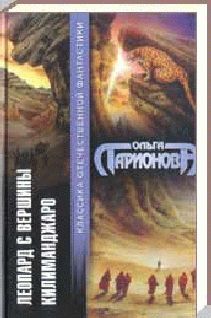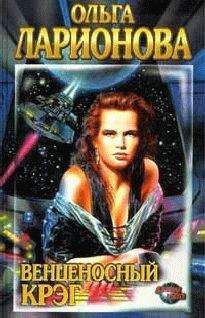— А форма?
— Трик? Хорош бы я был в нем. Обойдусь так. Кстати, Илль говорила, что тебе надо быть дома к завтраку.
— Действительно. А здесь мне больше не дадут?
— Знаешь что? Пошли на кухню.
Это была не сама кухня, а крошечный закуток, этакое преддверье рая. Из соседнего помещения тянуло свежим кофе и еще чем-то пряным.
— Холодного мяса, кофе и земляники, — крикнул Джабжа туда.
Тотчас же металлические руки протянули из-за двери все требуемое. Джабжа принял тарелки и поставил их передо мной.
— А ты? — спросил я.
— Мы с Лакостом только что завтракали. Ты не стесняйся. В Егерхауэне тебе не дадут медвежатины.
— А у тебя она откуда? На Венере, кажется, медведей еще не пасут.
— Поохотились, — Джабжа блаженно расплылся. — Мы ведь имеем на это право, только оружие должно быть не новее тысяча девятисотого года. В том-то и соль. Через месяц собираемся на оленя. Пошел бы с нами?
— А вы все вчетвером?
— Нет, Илль этого не любит.
— Странно. Можно подумать обратное. А ее брат?
— Какой брат?
— Туан, — сказал я не очень уверенно.
— Какой он к черту брат. Просто смазливый парень. Да они и не похожи. А стреляет он здорово, у него музейный винчестер. Так договорились?
Я кивнул.
— И вообще, переходил бы ты сюда. Мне позарез нужен еще один кибермеханик. А?
Я покачал головой.
— Нравится в Егерхауэне?
— Да, — сказал я твердо. — Мне там нравится, Джабжа.
Он посмотрел на меня и не стал больше спрашивать. Удивительно понятливый был парень.
Я взял за хвостик самую крупную земляничину и начал вертеть ее перед носом. Как все просто было в этой Хижине. Ужины при свечах, охота, винчестер вот музейный… Словно то, что потрясло все человечество, их совсем не коснулось. А может быть, они и не знают?..
— Послушай-ка, Джабжа, а все вы действительно знаете ЭТО?
— А как же, — он прекрасно меня понял и совсем даже не удивился.
— И кому это первому пришло в голову обнародовать такие данные? Самому Эрберу?
Теперь он посмотрел на меня несколько удивленно.
— Интересно, а как ты представляешь себе это самое: «обнародовать»? Может, ты думаешь, что на домах списки развесили или повестки разослали: «Вам надлежит явиться туда-то и тогда-то для ознакомления с датой собственной кончины…» Нет, милый. Что тогда творилось — описанию не поддается. Съезд психологов, конференция социологов, фонопленум археопсихологов, конгресс нейрологов, симпозиум невропатологов; всеземельные фонореферендумы шли косяком, как метеоритный поток. Страсти кипели, как лапша в кастрюле. И только когда абсолютное большинство высказалось против консервации пресловутых данных и за проведение опыта на строго добровольных началах — только тогда Комитет «Овератора» принял «Постановление о доступе к сведениям…» — вот такой талмуд. Читался, как фантастический роман, — сплошные предостережения типа: направо пойдешь — сон потеряешь, налево пойдешь — аппетит потеряешь, прямо пойдешь — девочки любить не будут…
— И все-таки ты пошел?
— Дочитал — и пошел.
— Ох, и легко же у тебя все выходит… Но кто-то не пошел?
— Естественно.
— И много таких?
Джабжа слегка пожал плечами:
— Кроме тебя, в Егерхауэне трое. И все знают. У нас тут четверо. И тоже все знают. Ведь все-таки «Овератор» нес колоссальное Знание. Его надо было взять и покрутить так и эдак — посмотреть, какой из него может получиться прок.
— Эксперимент на человеке.
— Зато какой эксперимент! И ты отказался бы?
— Я поставил бы его на себе. Только на себе.
— Ага! Вот мы и дошли до истины — на себе. На деле так и оказалось — каждый решил поставить его на себе. Читал ведь, наверное, у себя на буе всякую беллетристику про Последнюю Мировую, и все такое? Помнишь: выходит командир перед строем и говорит: это нужно, но это — верная смерть. Кто? И вот выходят: первый, второй, третий, а там сразу трое, четверо, семеро, и вот все остальные делают шаг вперед — и снова перед комиссаром одна шеренга. У вас в такой шеренге — трое. У нас — четверо. Где-то, может, и никого. А где-то — тысячи, миллионы.
— Тогда надо было выбрать из них некоторых.
— Некоторых? Любопытно. Каких же это — некоторых? Кто взял бы на себя — выбрать Лакоста, а мне сказать: ты, братец, не годишься! Или наоборот. В том-то и дело, что в этом строю все были равны, слабых не было. В истории человечества наступали моменты, когда люди, все до одного, уже что-то умели. Вот они все — абсолютно все — стали ходить на двух ногах. А вот все начали разговаривать. Все, но с переменным успехом, потопали по ступеням цивилизации. И вот наступил момент, когда все люди на Земле стали членами коммунистического общества. И дело тут не в общественной формации — изнутри человек стал другим. Словно его из нового материала делать стали. Вот и пришли мы к тому, что для эксперимента Эрбера годились все.
— Все это общие рассуждения, — прервал я его. — Я-то живу с этими тремя, мне виднее. Не говоря о том, что я не допустил бы к сведениям женщин и детей, я бы еще посмотрел и на Элефантуса, и на Патери Пата…
— Насчет женщин и детей это ты брось. Детям никто ничего не сообщает, обращаться в Комитет можно только после шестнадцати лет, это уже не детский возраст. А женщины посильнее нас с тобой. Что же касается доктора Элиа и твоего Пата, то ты, братец, хоть с ними и живешь почти под одной крышей, а смотришь на них только со своей колокольни. Ты совсем недавно узнал об «Овераторе», а для них это — давно пережитое. У них, может, пострашнее теперь заботы. Так что ты приглядись к ним, подумай.
— И все-таки это негуманно, Джабжа…
— Негуманно… — он пожевал губами: гуманно или негуманно? Слово и в самом деле удивительно годилось для пережевыванья и от многократного повторения стремительно теряло свой смысл. — Ну, ладно, совершим еще один экскурс в Последнюю Мировую. Представь себе, что человек вылезает из окопа и становится под пулеметную очередь. Это как?
— Если этого требовало…
— Ты не крути. По отношению к нему самому — это как, гуманно?
— Куда уж!
— Вот и я так думаю. А он, между прочим, из окопа все-таки вылезает и закрывает вражеский пулемет — собой. Так что давай кончим о гуманизме. Сейчас человечество оказалось перед теоремой. Дано — Знание. Требуется доказать — нужно ли это знание людям? И нет другого доказательства, как вынести все это на своих плечах. Донести до самого последнего, скинуть к чертовой матери и сказать…
— Не нужно! — крикнул я.
— Ишь как скоро. Эксперимент все еще идет. И остановить его нельзя, пока жив на Земле хоть один человек нашего поколения.