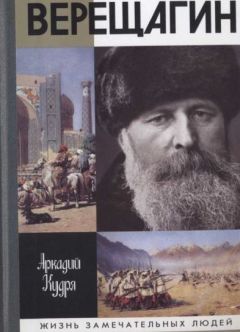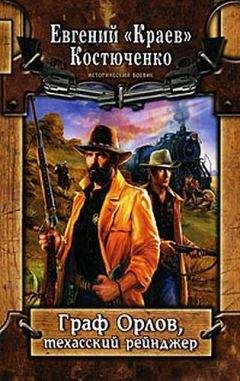Ему стало неловко и приятно. С одной стороны, он не имел, конечно, никаких общих интересов с этой малолеткой, ему тогда было уже двадцать восемь лет, но с другой – он сделал сегодня сложнейшую удачную операцию И мог себе позволить.
Только что позволить – он опять-таки не знал.
«Чем вы занимаетесь в свободное время?» – спросила девушка.
«У меня есть заграничный патефон», – ответил он.
«Вот бы послушать», – сказала девушка.
«И пластинки – Вертинский», – сказал он.
«Я их очень люблю», – ответила девушка.
Вертинский был самым модным в то время певцом.
Молодой хирург пригласил девушку к себе в гости, они прослушали две-три песни Вертинского, а больше слушать девушка не захотела. «Я их совсем не люблю, – сказала она. – Я вас люблю».
И в порыве откровенности объяснила, что любит его очень давно. С четырнадцати лет.
Молодой хирург не был подготовлен к такому повороту дела. У него дух захватило и голова пошла кругом, однако он взял себя в руки, стал призывать девушку к благоразумию, говоря, что между ними десять лет разницы и ни к чему хорошему такая любовь не приведет.
«Пусть, – ответила девушка. – Я, если хотите знать, всю жизнь ждала, когда вы наконец пригласите меня в гости к себе».
С этими словами она подошла к хирургу и крепко поцеловала его в губы. И тогда он понял, что именно может сегодня себе позволить.
Потом он ходил по комнате и сердито говорил: «Это же черт знает что? Мы даже не успели как следует познакомиться! Глупо и смешно! Я бы предположил, что это порыв животной страсти. Но вы говорите, что любите меня с четырнадцати лет. Значит, серьезное чувство? Зачем же тогда так скоропалительно?»
А девушка, полураздетая, сидя посреди разоренной постели, плакала и говорила: «Почему все говорят, что это наслаждение? Это же операция!»
На следующий день начальство больницы объявило молодому хирургу, что оказывает ему большое доверие и разрешает провести еще одну такую никем не деланную операцию, однако молодой наш хирург, поразмыслив, отказался. «С этими новшествами нужно быть поосторожнее, – сказал он. – Я должен взвесить, обдумать и усовершенствовать кое-какой инструмент».
Он усовершенствовал и обдумывал месяц, другой, пятый, а потом такие операции стали делать другие хирурги, да и получше, так что ему больше уже и не предлагали. Со временем он стал обыкновенным рядовым хирургом; впрочем, авторитет его в медицинском мире рос и рос, и когда, привезя в роддом жену, он попросил знакомого акушера: «Вы только не перепутайте, не подсуньте мне чужого ребенка», тот с уважением ответил: «Ну что вы!
Я лично прослежу».
И у хирурга никогда не возникало сомнений в том, что ребенок – его. Хотя этот ребенок и не имел никакого с ним внешнего сходства.
И на мать он совершенно не был похож.
Одно время он сильно смахивал на двоюродную тетю отца, однако длилось это недолго – с трех до четырех лет.
В другой раз он приобрел сходство с дедушкой матери, но всего на два-три месяца.
Когда ему исполнилось десять лет, он уже ни на кого не был похож. Может быть, на каких-нибудь отдаленных пращуров из эпохи средневековья или верхнего палеолита, но на этот счет можно строить лишь бездоказательные предположения.
«Ну и сын у меня!» – говорил отец жене.
Ревнивых подозрений у него не возникало и возникнуть не могло, а друзьям он объяснял ситуацию так: «У меня сын – мутант».
Эй, мутант, иди сюда!» – кричал он сыну, когда находился в дурашливом расположении духа.
Это странное слово однажды услышали товарищи по школе. Они тотчас же превратили его в кличку, оскорбившую слух учительницы, которая хоть и понимала, что в известном возрасте без кличек обойтись невозможно, так как подрастающие дети не желают носить имена, навязанные им в младенчестве, и пристрастием к кличкам как бы выражают протест против произвола старших, – но неприличие в этом естественном деле считала нужным пресекать. «Если вам так уж надо дать ему кличку, – сказала она детям, – то зовите его, например, Верещага».
5
Теперь, я думаю, следует кратко рассказать читателю о военном верещагинском детстве, о его ярчайшей юности, словно метеор осветившей небосклон эпохи… «Звезда! Звезда!» – закричали все, кто мог кричать, и запрыгали от радости все, кто мог прыгать, а он упал холодным, изъязвленным камнем на асфальт, весь в трещинах; и понуро разбрелись кричавшие и прыгавшие, а он встал и пошел по улицам враждебного города, где одна ворона украла у него ключ от квартиры, а в поисках другой он вынужден был отправиться на кладбище, сопровождаемый вдумчивой девушкой Тиной и сварливой девочкой Верой.
«Честное слово, она лает, как собака!» – говорил он им о вороне, а они не верили. Они смотрели на Верещагина как на сумасшедшего.
Так ли все это было? Не совсем. Но я не трону написанного, не зачеркну ни единого неправильного слова, потому что получилось красиво, а красота выше правды, – не в том смысле, что лучше, а именно выше, – они, красота и правда, как пламень молнии, летящей сверху, и огонь костра, разведенного на земле – кто из них лучше? Оба, оба хороши, огонь костра, может быть, даже нужней, но зажечь молнию в небе он не сумеет, тогда как молния часто разжигает костры, – потому что выше; нет, не решусь я убрать красоту-молнию с неба, – вдруг исчезнут тогда костры правды на земле?
Ранний возраст Верещагина ничем особым не отмечен. Разве только странной склонностью зарывать в землю. Он любил зарывать в землю. Он зарывал в землю все, что ему нравилось. Если какая-нибудь вещь ему не нравилась, он ее не зарывал.
Он зарывал в землю цветные карандаши, красноармейские пуговицы, конфетные фантики и отцовские скальпели. Он немало потрудился однажды, чтобы зарыть толстый том Детской энциклопедии с красивыми картинками: яму пришлось копать широкую и довольно большой глубины.
Три-четыре года ему тогда было. Или пять.
Как-то в августе родители повезли его к Черному морю, и там на берегу он познакомился с красивой ровесницей, у которой глаза блестели, как изумруд, ушки напоминали кораллы, а тельце вызывало желание прикоснуться. «Давай бегать, кто кого догонит», – предложила красавица. Верещагин глянул на нее внимательно. «Ложись, – сказал он ей. – Я зарою тебя в песок».
Он засыпал уже тельце, глаза и уши, только носик девочки еще торчал наружу, когда подбежал папа и выдернул дочку из песочного кургана.
«Разве можно так, мальчик!» – возмущенно сказал этот папа. «Он у меня садист, – сказал подошедший отец Верещагина. – Дайте ему затрещину».
Все раннее детство Верещагина усеяно холмиками, под которыми спрятаны красивые вещи.