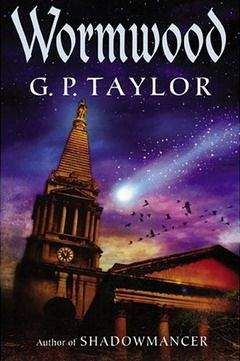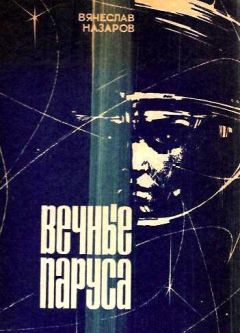И в этот момент заорал, запаниковал Африканец. Именно запаниковал, потому что другого сравнения не было, быть не могло и искать его было некогда — даже в самых худших бреднях. И Он бросился на крик, на ходу передергивая затвор. А лай, перемещаясь, перешел на отчаянный фальцет, вывалился отступающим, приседающим псом с ощерившимся оскалом, и еще "нечто", — в чем Он вначале разобрал пестрый ком красок: атласные шальвары, волосатую грудь с блестящим золотом медальона под раздернутой до пупа рубахой, а потом — свиное рыло и желтые, как у козы, глаза с вертикальным разрезом темных зрачков, смотрящих абсолютно равнодушно, словно в пустоту, и — редкую белесую щетину на розоватой коже, покрытой струпьями въевшейся грязи. «Оно» молча двигалось, до жути знакомо выказывая под верхней губой белые загнутые клыки и мелко подергивая капризными углами рта, словно, как заика, собиралось выдавить из себя звук. И Он тотчас вспомнил, что часто видел такие оскаленные морды в витринах магазинов, где они наваливались горкой, взирая на мир подслеповатыми зажмуренными глазками и разводами запекшейся крови из ушей и желтой пеной из точно таких же пастей.
И тут Африканец, воодушевленный появлением хозяина, подскочил и сделал то, чему Он часто учил его, — попытался ухватить существо за кисть. Прыжок вышел чистым. И вначале Он решил, что пес промахнулся, потому что он просто пролетел мимо и приземлился на все четыре лапы — несколько даже жестко от неожиданности. И сразу же повторил бросок — прыгнул из неудобного положения с разворотом. И вышло то же самое — челюсти, вооруженные огромными клыками, впустую щелкнули в воздухе, и Африканец в какой-то момент совершенно беспомощно завис в верхней точке прыжка. И тогда рука, совершив неимоверный маневр, схватила его за загривок и швырнула с такой силой, что внутри Африканца утробно и глухо что-то хрюкнуло, а существо, до странности равнодушное к происходящему и до этого походившее на ожившую статую, повернуло голову и медленно, с неимоверно тайной властью, зловеще потянулось к автомату и ухмыльнулось, как будто сообщая, — брось ты эту железку, какого черта! в этом деле она ни к чему.
И тогда Он стал стрелять, уже зная, что ничего не сможет сделать ни в этой ситуации, ни с самим существом.
Он увидел, как первая очередь прошла от шеи до пояса, и пули, впиваясь черными всплесками, вылетали позади клочьями материала и еще нечто таким, серовато-неопределенным, что тут же со всхлипом и чмоканьем втягивалось назад. И уже пятясь и чувствуя на лице хриплое, смрадное дыхание и с отчаяния задирая ствол и вдребезги разнося череп, понял, что падает и что автомат в руках превращается в раскаленный кусок металла и стекает на ноги.
***
Он пришел в себя ночью. Привычно пахло остывающей машиной, горячим воздухом и пыльной травой снаружи. Где-то в кустах громко стрекотали цикады и звенело: "Зынь-нь-нь-нь…" Собственно, от этого Он и проснулся. Сел и спустил ноги на пол.
В темноте мерно и спокойно дышала жена.
Он взял фонарик и осторожно вышел через заднюю дверь. На темном небе едва прорисовывались еще более темные крыши, под ними неясно громоздились какие-то беззвучные тени, и Он почему-то не отважился включить свет.
Через минуту следом выбрался Африканец, звеняще потянулся, а потом, как большой, тяжелый кот, стал ходить и выгибаться, норовя потереться спиной.
— Ну… все, все… а то разбудишь. — Придерживал Он его, чувствуя позади эти дома, напрягшуюся темноту и, стараясь повернуться спиной к машине.
Но жена проснулась сама. Вышла, белея в темноте, и сказала:
— Что-то мне тревожно… нехорошо… Давай уедем…
Уже начинало светлеть, когда они собрались и выехали на шоссе. Теперь оно казалось чужеродным и противоестественным в этом мире трав, деревьев и тишины. И сами они в своей машине почувствовали себя посторонними, лишними, никому ненужными, занятыми тем, что оглядывались, боялись неизвестно чего — своих мыслей и просто желаний, необдуманных поступков и привходящих событий в неожиданных закономерностях, которые не поддавались прямому анализу, были запутанны и нелогичны.
И тогда Он вдруг ясно и четко с тем набором ощущений, которые почти рождают реальность, вспомнил вчерашние события и ожоги на руках, и с теми ежесекундными чувствами, которые обгоняют мысли и от которых перехватывает дыхание, посмотрел под руль — автомат со сложенным прикладом лежал на месте, и ремешок, чтобы не мешал, привычно был обкручен вокруг ствола.
— Ты ничего не помнишь? — осторожно спросил Он, поворачиваясь, чтобы по ее лицу угадать то, что сидело и в нем — страх.
Если бы она не удивилась, Он бы что-то заподозрил, — ведь она была настолько его женой, что не могла не уловить праздности вопроса.
— Вчера? — спросила она на выдохе.
— Да, — ответил Он.
— … заехали во двор и легли спать… — сказала она, еще надеясь неизвестно на что.
— Это я помню, — кивнул Он.
— Больше… ничего-о-о… — произнесла она, вглядываясь в его лицо и пытаясь помочь.
Она почти помогла.
— Точно… ничего… приснилось… — облегченно произнес Он.
— Была душная ночь. У моря будет прохладнее…
— Да, — машинально повторил Он, — будет прохладнее…
Потом…
Потом они увидели след.
Обычный, четкий, ясный след протекторов на утреннем асфальте, где и росе места не было.
И Он подумал: "Вот оно — еще одно начало. Когда я сюда свернул?"
А она произнесла испуганно:
— Не надо, не надо… ведь ничего не случилось.
Но Он покачал головой:
— Я все время боялся…
— Но может быть, это не «оно»?
— Лабиринт имеет множество входов, — произнес Он и замолчал.
— Я не хотела… — сказала она, я не хотела…
— Ты здесь ни при чем, — возразил Он, — совсем ни при чем… Не здесь, так в другом месте…
— Бедный, ты мой, бедный, — сказала она.
А Он подумал, что неизвестно, что лучше, быть бедным или одиноким. Но одиноким не с ней, а в самом себе, и не в силу обстоятельств, а от Веры, которую подтверждают тебе каждый день, каждую минуту и которой ты должен, обязан — верить, проникаться, любить — ни больше, ни меньше, как раб, как собака, как червь. Ибо ты оставлен, и жена твоя — тоже, и еще — пес. А это что-то значит, пока еще неизвестно — что, и тебе позарез надо разгадать, заглянуть за штору — и ты чувствуешь, что положишь на это свою жизнь, свою и чужую — и еще бог весть что — вот что страшно! Но все равно ты, как каторжник, тянешь свою колоду и будешь тянуть, потому что это твой крест, загадка, судьба, потому что нет ничего заманчивее узнать то, что узнать опасно, страшно или просто невозможно, потому что, наконец, тебя просто к этому подталкивают шаг за шагом, а вот что из этого выйдет — это уже вопрос. Но лучше к нему не обращаться — преждевременно или непреждевременно — как бы там ни вышло, — не делать шага, а оно само вынесет, естественным путем, — если дано, конечно. А вот об этом лучше не судить и не иметь собственного мнения, потому что это не твоя власть, а судьба, и не твое дело, а Перст Божий!