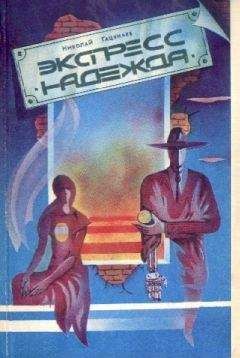Очнулся он в прохладной, золотистой от солнечного света комнате. Пахнущее свежестью постельное белье приятно холодило разгоряченное тело. Некоторое время он продолжал лежать, восстанавливая в памяти все, что с ним произошло. Потом осторожно высвободил из-под простыни руки и поднес к лицу. Руки были целые, без единой царапинки. Медленно согнул ноги в коленях, — слушаются. Напряг мышцы живота, — слегка побаливают.
«Жив… — мысль раскручивалась медленно, словно ржавая пружина. — Жив… Цел» И вдруг словно жаром полыхнуло из раскаленной печи: «А таран?!. Значит, промахнулся?!. Значит…»
— М-м-а-д-ддья-яр-р-р! — хрип рвался сквозь стиснутые зубы, свистел, рычал, шипел. — М-и-и-ш-ка-а-а!
Он отчетливо увидел, как реактивный «мессершмитт» настигает курбатовский «ил», как вгрызаются в фюзеляж дымящиеся трассы и, не разжимая зубов, завыл тоскливо, по-звериному, чувствуя, как обжигают щеки слезы отчаяния и бессильной ярости.
Несколько дней он не притрагивался к еде. Лежал лицом к стене, ни на что не реагируя, ничего не слыша. И вспоминал, вспоминал, вспоминал…
Турткуль. Белые домики над бурливой ширью Амударьи. Колесные буксиры с караванами барж. Резкие крики чаек. И небо. Бездонное. Голубое. Влекущее. Летом они с Мишкой Курбатовым целыми днями пропадали на реке. Ставили подпуски на сомов, удили на затонах золотистых сазанов, гоняли на плоскодонке вверх до Шарлаука и вниз к Чалышу, Кипчаку, Каратау.
Было в Курбатове что-то притягательное, завораживающее, внушающее восхищение и потребность подражать. Неистощимый на выдумки, всегда чем-то увлеченный, к чему-то стремящийся, он был насыщен такой неиссякаемой энергией, что невольно заряжал ею других.
Бородатые казаки-старообрядцы, глядя на него, одобрительно качали головами: «Непоседа малый. Живчик». Грудастые речники в тельняшках и широченных суконных клешах посвойски хлопали Мишку по спине: «Ртуть-парень!»
И только Иван знал Мадьяра Курбатова другим: притихшим, задумчиво молчаливым. Бывало такое нечасто, но уж если случалось, вывести Мишку из этого состояния было непросто. Он мог часами лежать где-нибудь на травянистом пригорке, зачарованно глядя в небо, словно видел там что-то такое, чего никому, кроме него, увидеть не дано. Расспрашивать его в такие минуты было бесполезно, Иван знал это и ни о чем не спрашивал. Лишь однажды в городском парке, где они вдвоем готовились к выпускным экзаменам, он захлопнул учебник, обнаружив, что Мишка его не слушает, и возмущенно уставился на товарища. Тот сидел, прислонившись спиной к стволу старой акации и сквозь ажурную, перемежающуюся белыми кистями цветов зелень смотрел вверх, в безоблачное весеннее небо.
— Что ты там узрел? — с обидой спросил Иван.
С минуту Мишка молчал. Потом, все так же не меняя позы, вдруг начал читать стихи.
…И маленький тревожный человек
С блестящим взглядом, ярким и холодным,
Идет в огонь. «Умерший в рабский век
Бессмертием венчается — в свободном!
Я умираю — ибо так хочу.
Развей, палач, развей мой прах, презренный!
Привет Вселенной, Солнцу! Палачу!
Он мысль мою развеет по Вселенной»
— Твои? — недоверчиво спросил Иван. Курбатов покачал головой.
— Бунин. Здорово, правда? Маленький тревожный человек… — Мадьяр помолчал, мечтательно зажмурив глаза. — А на всю Вселенную замахнулся.
— Это ты о ком? — Иван отложил книгу.
— О Джордано Фелиппо Бруно.
— И стихи о нем?
— О нем. — Мишка подобрал учебник тригонометрии, машинально перевернул несколько страниц. — Я, Ваня, летчиком хочу стать.
— Скажешь! — фыркнул Иван. — Это тебе не буксиры по Амударье водить.
Аэропланы были уже не в новинку. По ту сторону реки, в Ургенче построили аэродром, и серебристые птицы частенько пролетали над Турткулем. Но одно дело восхищаться ими, задрав голову, и совсем другое…
— А я стану! — Мишка упрямо встряхнул чубом. — Вот увидишь! А может, вдвоем, а? Разузнаем, что и как и сразу после экзаменов двинем? Тебе хорошо — в детдоме живешь, ни у кого отпрашиваться не надо.
Так родилась мечта. Сумасшедшая, неосуществимая, и потому особенно заманчивая и прекрасная. А рядом, в нескольких десятках метров от ограды парка бурлила, вгрызаясь в глинистый берег, Амударья и гулко рушились в воду подмытые ею пласты грунта.
Глаза у учлета Курбатова были синие-синие, а чуб — цвета спелой пшеницы. Нос, правда, подгулял: маленький, с легкомысленно вздернутым кончиком, словно чужой на удлиненном, с резкими чертами лице. Особенно это бросалось в глаза, когда Курбатов смеялся. А смеялся он последнее время редко. Даже теперь, танцуя с любимой девушкой модное танго «Голубая рапсодия», Курбатов оставался серьезным, хотя причин для радостного настроения было предостаточно: позади годы учебы, еще немного и — прощай училище, здравствуй, новая жизнь, служба, романтика дальних полетов!
Иван тот от уха до уха сиял, а Курбатов — ни-ни. Молчалив, собран, сосредоточен.
А ночь — какие только в сказках бывают: серебряная от лунного света, ласковая, трепетная. И когда умолкает духовой оркестр, слышно, как за Волгой петухи перекликаются, да гдето неподалеку девичьи голоса «Катюшу» выводят.
Катюша… Через несколько дней у них с Мишкой свадьба. Своей семьей жить начнут. И будет у этой семьи верный и неизменный друг — Ваня Зарудный. Вечный холостяк, потому что для него, как и для Миши Курбатова, свет клином на Кате-Катюше сошелся. А она полюбила Мишку.
Потом была свадьба. С шампанским. С танцами под патефон. С дружескими напутствиями, веселыми, но немного грустными. Потому как предстояли молодым военным летчикам дальние пути-дороги в летные части. И когда начальник училища — рано поседевший крепыш с четырьмя шпалами в петлицах — поднял прощальный тост, в голосе его звучала гордость за своих питомцев и печаль расставания.
Друзьям повезло: обоих направили в один полк. Но и месяца не прошло, — грянула война, и они даже не смогли проводить Катю на вокзал к поезду, которым предстояло ей добраться до Чарджуя, а оттуда, уже пароходом, в Турткуль, к родителям Мадьяра.
В ноябре, возвращаясь с задания, угодил Иван под огонь немецкой зенитной батареи и на подбитой машине чудом дотянул до аэродрома. Посадить посадил, а из кабины выбраться уже не смог: закружилось, поплыло все перед глазами, и белым саваном опустилось на плексигласовый фонарь кабины холодное зимнее небо.
Одиннадцать осколков извлекли из Ивана хирурги. Год с лишним провалялся в госпиталях, прошел дюжину комиссий, добиваясь разрешения снова вернуться на фронт, и, наконец, солнечным осенним утром вылез из попутного «доджа» и зашагал, разминая затекшие ноги, по хрусткой от ночного морозца траве к домику у дальней кромки леса, где находился штаб эскадрильи.