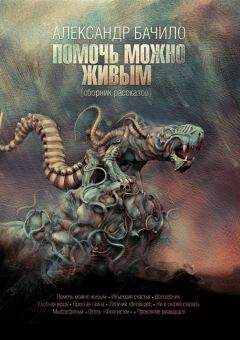побарахтался немного, расправил крылья и улетел, а я сел и заревел так, что родители-было раннее утро — вскочили как ошпаренные и кинулись к «рукавам», утешать меня. По-моему, тогда я впервые почувствовал, что чего-то лишен. Права свободного передвижения, как Пятница.
Для него это не особенно обременительно. А для меня? Собственно, в чем я стеснен? Желаешь, можешь надеть скафандр и на всю длину фала — за борт. Масса острых ощущений. Или бери отпуск, натягивай тот Же скафандр — и на Землю, посмотреть на Москву с Ленинских гор.
А это и в самом деле неплохо… Приехать рано-рано утром, когда все прохладное, росистое и розовое от восхода, внизу шелестит зелень, горят купола, а гранитные перила почти красные, и университет стартует в светлое небо, как крейсер звездного класса. Постоять так минут двадцать, пока некому пялиться, до первой платформы с туристами…
Мама писала… Смотри-ка, я успел привыкнуть к этому глаголу! Мама говорила, что мой отсек в полном порядке, на расконсервацию понадобится не больше полутора часов, так что я могу прилететь, когда захочу. Земля… И все же здесь я иду по своему трехметрово-му коридору, на мне только шорты, майка или компенсационный костюм, если гравигенераторы выключены. Я такой же, как сотни других работников ВНИПа, я делаю столько же, сколько они, и даже немного больше. Здесь я — дипломированный пилот-наблюдатель и инженер-эксплуатационник замкнутых систем, кандидат физико-математических наук, молодой астрофизик, подающий надежды и оправдывающий оные. На Земле я — жалостный монстр. Там я волей-неволей начинаю заботиться об одном: как бы не осуществилась одна из ста тысяч угроз для моей драгоценной жизни. Орда специалистов с упорством и искусством, достойными лучшего применения, страхуют меня, берегут, спасают. А я сижу в отсеке или в скафандре и смотрю, как они вертятся вокруг. Нет, слуга покорный! В миллионный раз спасибо ПП. До сих пор не знаю, чего ему стоило добиться для меня разрешения работать во Внеземном Научно-Индустриальном Поясе, когда нормальных-то кандидатов толпы…
Тельме труднее. Она привязана к Земле. Женщины в космосе, даже в ближнем, по-прежнему редкость. К тому же среди таких, как мы, мало-мальски здоровые люди встречаются нечасто. Я — исключение, созданное благоприятным стечением обстоятельств и неусыпным попечением медиков. Пока Тельма живет в Булунгу; ее родина до сих пор не вошла даже в Африканскую Федерацию. Ей повезло, что родители у нее по тамошним понятиям люди довольно состоятельные и в городе есть иммунологическая лаборатория, чьи специалисты наблюдают за ней с рождения…
Она очень тихая и молчаливая. Было видно, что она делает над собой серьезное усилие, чтобы спросить меня, не из нашего ли города знаменитая русская пианистка Нелли Торсуева. Тщеславясь, я ответил, что даже из нашего дома и вообще мы родственники. Как она взглянула своими огромными глазами, как руками всплеснула! Можно подумать, своей славой мать обязана именно мне. Вот тут-то мы и разговорились по-настоящему и проговорили почти все оставшееся до отправки наших отсеков время. И тогда я сдуру спросил, чем ей так нравится Торсуева. Тельма вдруг покраснела так, что ее светло-шоколадные скулы потемнели, и очень сухо сказала, что вообще очень любит музыку, «э сетера э сетера»… После этого она замкнулась еще крепче, чем раньше, и на мои натужные попытки поддержать хотя бы светскую беседу отвечала лишь односложными «уи, мсье» или «нон, мсье» и сдержанной улыбкой. Что ее задело, я так и не понял. Ладно, что-то я расписался. Поистязаемся, и спать.
Клаус Энгельмайер, «Чума на оба ваших дома!» (отрывок из книги; перевод машинный с последующей редакцией).
«…Рекламный отдел сработал, как часы, и Тедди, мой литагент, стал звездой номер два. Первой, разумеется, был я.
Мы были готовы к тому, что книга продержится в списках недолго, не больше месяца, но произошло непредвиденное: она продолжала раскупаться, и вряд ли дело было в рекламе, Пошел двенадцатый тираж, Тедди потерял голову. Писатели, которые на него раньше и высморкаться не захотели бы, набивались к нему сотнями. Как будто дело было в нем. Как будто дело было в них!
У них не было стекла. Они могли отгородиться от мира, и для многих он был опасен и беспощаден, но никто не мог того же, что я — заплатить жизнью за глоток дымного, пыльного, вонючего городского воздуха.
Никто.
Я один.
Когда наследники Тура перестали ломаться и уступили охотничий домик за двести семьдесят тысяч единиц, на треть меньше запрошенного, ко мне явился Поничелли.
Редкие зубы, редкие усы и светлые глаза, из-за контактных линз выпуклые и блестящие, как два объектива, — он был похож скорее на немца, чем на итальянца. Прав на экранизацию моей книги, которую он упорно именовал романом, Поничелли не получил: в конце концов, он так взбесил меня этим «романом», что я приказал Клейну вытолкать его. Команда всполошилась, потому что мониторы показали всплеск, какого давно не было.
Недели три я был занят переездом. Выписанный мной Джей Бигелоу сумел переоборудовать дом так, как мне хотелось, — из миллиардерского каприза в пригодное для меня жилье.
Мне уже давно хотелось жить в комнате, а не в отсеке. Охотничий домик — трехэтажный особняк из двенадцати комнат, с громадной гостиной и таким же громадным холлом. Холл и четыре комнаты первого этажа я отвел для команды и всего комплекса аппаратуры. Гостиную и три верхних комнаты Джей перестроил, загерметизировал и отделил от всего прочего стеной из стеклопластика. Ее можно было делать непроницаемо темной. Окна забраны бронестеклом, которое тоже можно затемнять. Когда я впервые нажал на клавишу, мне стало жутко.
Я еще никогда не был один. На меня всегда кто-то смотрел. Когда же я увидел в черном глянце отражение человека, мне стало легче, но только на секунду. Страх с новой силой вцепился в меня, едва я понял, что это-всего-навсего призрак призрака, мое отражение… Еле удержавшись от вопля, я ударил по клавише и с невыразимым облегчением увидел мониторы контроля, мигающий глаз индикатора комплекса воздухоочистки, голубые комбинезоны. Тогда я поклялся больше не дотрагиваться до нее.
Но я нажал клавишу во второй раз.
Через месяц Поничелли снова добился встречи, и пришел уже не один.
Май была тогда так же ослепительно хороша, как теперь. Годы менее властны над кинозвездами, владеющими приемами борьбы со временем.
Май… Уже одно сочетание густых темных волос, матовой белизны кожи и удивительных, громадных, какого-то лилового цвета глаз поражало надолго. Она всегда была так же глупа и бездарна, как сейчас, но ее красота выше всякого таланта. Поничелли