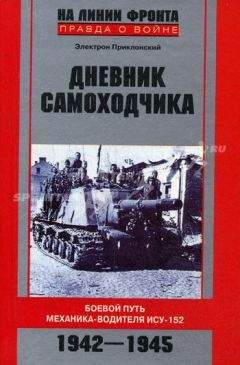Пока я снимал халат, вешал его на плечики в шкаф и облачался в мирское, он вещал из сеней, пересказывая новости мира. У него «Панасоник», на батарейках.
Выстланный марлей саквояж, казенное имущество, голодно зевал на табурете. Сейчас, сейчас! Сейчас. Сейчас…
Лабиринт, что пугал меня в день приезда, исчез. Осталось несколько домиков, чаща из трех сосен. Неделя выдалась скупой на дождь, и сапоги напрасно топтали землю. Ничего, я грязь найду. Или она меня.
— Подморозит, снегу насыпет, истинная краса станет, — расписывал мне будущее учитель. — По полям километров двадцать на лыжах, а потом — банька! Да водочка! Помидоры у меня чудные выйти должны, две бочки засолил, помидоров и огурцов. Сорт — нигде больше не растут. Но это второе, а главное — снег! Бескрайняя белизна, и вы! Космос, вселенная! Дух захватывает, как представишь.
Я попробовал. Таракашка на беленой стене. Хлоп его! и опять нету доктора в Жарком.
Очередь тянулась к возку, товар шел с колес. Лошадь фыркала, продавец доставал из возка буханки, пахучие, теплые.
Бабы молча складывали их в плетеные корзинки и разбредались, не стайками, не парочками даже, а поодиночке, словно не в деревне.
— Хорош хлебушек? — поинтересовался учитель у нестарой, но давно уставшей женщины. Та остановилась, узнавая нас, и ответила:
— Ничё.
Другая баба в очереди протянула книжицу грубой оберточной бумаги. Продавец вписал в нее что-то и вернул.
— Серая карта, — пояснил В.В. — На вас тоже заведена.
— Зачем?
— Это ваша зарплата. Безналичный расчёт. Совхоз заключил договор с банком, а банк — с торговлей. Весьма удобно. Банку, торговле, даже совхозу.
— А людям?
— Больше всех. Деревенские к новым деньгам привыкают плохо, особенно местные. Какой стон стоял, когда советские купюры отменяли — трехи, пятерки, особенно червонцы. А что делать было? Некоторые до истощения доходили, а не могли пересилить себя, пачку денег за буханку отдать. А так — денег не видно, душа не болит.
Гул мотора, привычный в городе, но громоздкий и громкий здесь, прервал торговлю. Все повернулись на него, стали ждать — опасливо, строжко.
Вдоль улицы катил грузовик, большой трехосный фургон. Зеленый, он походил на дорогую игрушку, невидимой рукой ведомую по деревне. Саня, Саня, дай и Вовику поиграть! Ладно, мам, доеду до конца, и дам.
Грузовик притормозил, из кабины вылезли двое.
— Привет тружениками полей, — бодро поздоровался водитель с миром.
Его спутник, напротив, искал одного человека. В.В.
— День добрый. Мы тут съемку трассы ведем, какое-то время поблизости жить будем. Хочется еды подкупить, яичек, мясца, сметаны. Не подскажите, кто продаст?
Учитель осмотрел прибывших — оба молодые, лет по тридцати, рослые. Видно, прикидывал аппетиты. Потом ответил:
— Да каждый продаст. Вы сами спросите, а то назову одного — другие обидятся. Деревня….
— Понятно, — спросивший прошел вдоль очереди. — Курицу продадите? Побольше, пожирнее?
Баба ухватила его за рукав, забормотала.
— Продашь, значит? А сметана у тебя найдется?
Та кивнула, довольная.
Они отошли в сторонку, но баба внезапно отшатнулась от протянутых денег, фыркнула сердито и вернулась в очередь.
— Чего она? — удивленно спросил съемщик трассы. — Пять баксов — хорошая цена.
— Вы ей доллары предложили? — в свою очередь удивился учитель.
— Ну да. Мы всегда в поле доллары берем. Знаете, пару раз ожглись — обмен затеют, или что, а доллар и в поле доллар. Специально мелочью брали, по доллару, по пять.
— В поле может быть, но не здесь. Местные рубли любят, особенно тысячные. А валюты боятся.
— Чудно, — мужик повернулся к водителю:
— Максим, у тебя рубли есть?
Я тоже, выходит, не при деньгах. Одна надежда на серую карту.
Наконец, и мне досталось положенное — шесть буханок, на десять дней хватит.
— Когда промтоварная лавка приедет? — поинтересовался В.В.
— Одиннадцатого, как обычно, — продавец явно обрадовался случаю поговорить. — Мало у вас денег, в убыток почти ездить. Мы с Машкой, — он кивнул на лошадь, — привычные, а машина одного бензина нажгет… — он и дальше бы развивал тему, но учитель, попрощавшись, отошел, и торговля продолжилась, тихая, смиренная.
Я расстался с В.В., пообещав позже зайти в библиотеку.
Он и библиотекарем был, на полминимума. Никто ничего не читает, но кушать хочется.
Хлебный дух в моем жилье делал его слишком уж обжитым, уютным. Ни к чему это. Прихватив кусок черствого, одолженного хлеба, я пошел под небо. Англичане, например, уважают пешие прогулки, даже любят. И я полюблю.
Возок, расторговавшись, возвращался в Огаревку.
Куча конских яблок парила. К похолоданию. На Ульяну говно парит, знать, мороз повскоре вдарит. Областная примета.
Поле широкое, дорог много, почто мне во след потребкооперации плестись? Я свернул в сторону. А посуда вперед и вперед. Часа полтора шел я. Скоро и назад.
Редкие, когда-то просмоленные столбики в рост, ржавые крюки на них. Съелось железо, дерево прочнее вышло. Ограда когда-то стояла. Шипы без розы.
Я обошел невысокий пригорок. Вот тебе и поле. Застарелым чирьяком возвышался на земле колпак-полусфера. Бетон старый, местами проглядывает арматура. Зияющий вход подманивал. Я заглянул. Памятник третьей пятилетки, линия Ворошилова? Внутри было пусто и мерзко, я поспешил наружу. Всей высоты — метра полтора. Впереди — траншея. Похоже на полигон, старый, давно заброшенный. Поваленные на бок железные фермы, плешины в траве, спекшаяся земля. Небольшой, в общем, полигончик.
Крохотное озерцо могло быть в прошлом и воронкой, но оно — единственное. Еще пара разрушенных капониров, и, самое интересное, узкоколейка. От полигона она шла к югу, там — разъезд Боровой, километрах в двадцати. Пустить поезд нельзя — шпалы вспороты, растерзаны. В войну такое делали при отступлении, на страх врагу. Выжженная земля запаршивела, а восстанавливать, видно, не стали. Я постоял, вспоминая историю с географией. Были здесь немцы, конечно.
Но полигон явно отслужил свое, стал гаженной заброшенной пустошью. Кого, что могли здесь гонять? Огнеметы, свинтопрульные аппараты? Многое напридумывали шарашкины дети.
Где-то у самого края правого глаза болталось пятнышко, серое, нечеткое. Точно крался, примеряясь к горлу, кто-то быстрый, чуткий — стоило повернуть голову, и пятнышко стремительно отлетало назад, за спину. Старое, нерассосавшееся кровоизлияние в глазу, память о маленьком инсульте, плате за чемпионство. Инсультике. Мальчонке.
Я мальчонка маленький, маленькой, гоп!
Мой папаня седенький, седенькой, гоп!
Он лежит в избеночке, во курной, гоп!
Быть мне сиротинушкой, сиротой, гоп!
Попевка невесело ныла в голове, постепенно угасая. Но, словно в отместку, закудахтала курица. Квохтание умиляло до слез — бугры капониров, мертвая земля, ветер тянет едва слышной, но тяжелой химией, а тут курочка яичко снесла. Всюду жизнь.