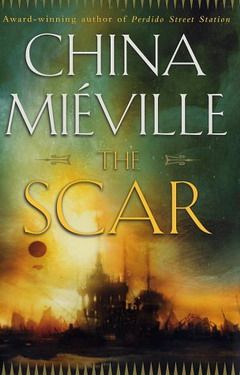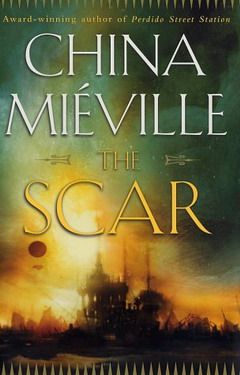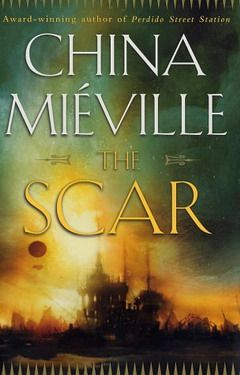— Нет! — сказал, наконец, Робалсон. Вид у него был задумчивый. Даже угрюмый. — Я, кажется, понял. Слухи не врут!
— Э? Какие еще слухи?
— Про тебя слухи.
— Что? — задохнулся Шэм. — О чем ты?
— Ты правильно сделал, что не поехал с ними, Шэм. — Голос Робалсона звучал напряженно. — Я должен тебе кое-что рассказать. — И он оглянулся.
— Что? О чем ты?
— Пойдем на улицу, — сказал Робалсон. — Там я все объясню. Погоди. Не надо, чтобы нас видели выходящими вместе. Ты должен быть осторожен. — Говоря это, он не смотрел на Шэма. — Выйдешь из дверей, повернешь налево, там маленький проулок. Я пойду первым. Через пять минут выходи за мной. И, Шэм, сделай так, чтобы никто не видел, как ты уходишь.
И он исчез, оставив Шэма одного, озадаченного и даже, что греха таить, напуганного. Шэм подождал. Сглотнул. Послушал, как кровь стучит в висках. Наконец — голова кружилась, хотя он не пил спиртного, — он встал. Следят ли за ним? Он оглядел людей, выпивавших в баре. В сумеречном свете было непонятно.
Так, теперь наружу, в серый свет уличных огней — манихийскую ночь. Он спрятался в тени. Ему на плечо с неба свалилась Дэйби. Он ткнулся носом в ее шубку. Вон он, Робалсон, стоит, прислонившись к стене у мусорного контейнера, ждет.
— Ты с мышью? — нервно спрашивает он.
— Ну, где твой большой секрет? — вопросом на вопрос отвечает Шэм.
— Большой секрет. — Робалсон кивает. — Помнишь, ты спрашивал меня, с какого я поезда? И чем занимаюсь?
Шэм вздрогнул.
— Ага, — сказал он. — Ты тогда сказал, что ты… ну, в общем, ты пошутил.
— Ясно. Ты не забыл. А секрет вот какой. — Робалсон наклонился к нему. — Я не шутил тогда. Я правда пират.
И когда чьи-то грубые руки обхватили его сзади, стиснув так, что он не мог пошевелиться, и кто-то невидимый зажал ему нос тряпкой, и пары с резким запахом отбеливателя и ментола хлынули в его легкие, отчего у него перед глазами все сначала завертелось, а потом потемнело, и сверху донесся мышиный пронзительный писк, — Шэм понял, что нисколько этим не удивлен.
ЧАСТЬ IV
Муравьиный лев
Myrmeleon deinos
Из архивов Филантропического Общества Стреггейских Кротобоев, воспроизведено с любезного разрешения Общества
Чем можем заниматься мы, покуда наше сознание отдыхает? Исследователь человеческого разума, психономист, мыслекартограф сочтут этот вопрос бессмысленным: мы ничто без сознания, когда оно спит, мы тоже не бодрствуем.
Другие, напротив, увидят в нем парадокс, пробуждающий критическую мысль, открывающий дорогу интеллектуальным нововведениям. Провокация не обязательно должна быть умной, чтобы дать мозгу повод для размышлений. Что, если глупые вопросы вообще являются важнейшим инструментом философского познания?
Мы очищаем наш разум от исторического сора и превращаем его в машину для переработки хаоса в рассказ. Это рассказ окровавленного мальчика. Это его сознание фиксирует его для нас. Но в таком случае нам придется бросить вызов парадоксу, совершить дерзкий скачок нарратива для того, чтобы отключенность этого чрезвычайно важного для нас сознания не стала неодолимым препятствием для нашего рассказа. На вопрос: Что надлежит делать истории, если главное окно, сквозь которое мы ее наблюдаем, вдруг захлопывается? — мы могли бы ответить так: Ей следует отыскать другое окно.
Иными словами, перейти на новые рельсы, обрести новый взгляд на мир.
Сквозь вечер и его сумрак, навстречу ночи и сквозь саму ночь шел вперед поезд Шроаков. Даже самая темная тьма не была для него препятствием.
В их распоряжении были самые дорогие карты, самое лучшее, новейшее оборудование, окружавшее состав зоной чувствительности. На путях, близких к берегу настолько, что правительство Манихики могло бы назвать их своими, поезд Шроаков полз. Он, — если, конечно, так позволительно выражаться о железнодорожном составе, — шел на цыпочках, погасив свет.
Шроаки надели свои лучшие наряды. Хотя день отъезда сохранялся в тайне, и хотя с собой они взяли почти сплошь потрепанную, уродливую одежду для повседневной носки, оба сделали одно приятное исключение. Отойдя от берегов Манихики на несколько миль вдаль, туда, где их путешествие, можно сказать, начиналось по-настоящему, они переоделись.
Деро натянул нарядный сюртучок из голубого хлопка с лацканами, который был ему лишь чуточку маловат, и расчесал на прямой пробор свои непослушные волосы. Кальдера облачилась в свободные брюки темно-бордового цвета с блузкой в таких пышных рюшах, что ее брат даже приподнял бровь от удивления, глядя на нее, — она сама не очень-то любила эту блузку, но, как ни крути, ничего наряднее в ее гардеробе не было. Она и Деро смотрели друг на друга одинаковыми карими глазами.
— Ну, вот, — сказал Деро. Это был особый, даже торжественный случай в их жизни, так они заранее решили.
Вдали сиял маяк большой гавани, его луч вращался, на мгновение выхватывая из тьмы полосы ландшафта в несколько миль длиной; бесчисленные рельсы взблескивали при очередном проходе. Сам поезд и его оборудование, его карты и его намерения представляли особый интерес для правительства, как было хорошо известно его пассажирам. Поэтому они много дней ехали, не зажигая огней, пока, наконец, не отошли на такое расстояние, с которого могли с уверенностью заявить, что избежали ненужного внимания.
Оказавшись за пределами юрисдикции родины, они подкрутили рычаги управления странным механизмом, прибавили газу и включили свет. Спереди локомотив казался громадным циклопом, его могучий световой луч затоплял желтовато-белым сиянием железную паутину впереди, пугая копающих зверей. Поезд шел на восток, север, восток, север, север, север. Поколения, нет, целые цивилизации мотыльков устремлялись на необоримый призыв этого восхитительного блеска, и — о, жестокая сила фиксации! — расплющивались в лепешку об источник того, что они так любили.
А что, если бы кто-нибудь из них избежал жестокого столкновения и очутился внутри поезда, что бы он увидел? Передний вагон своим убранством напоминал дом Шроаков. Правда, он был не столь обширен и, конечно же, не так грязен, как дом, но все же и здесь все койки, стулья, столы и прочие горизонтальные поверхности занимали бумаги, книги, инструменты и утиль.
На верхней полке спал Деро, мерное движение поезда баюкало его. Время от времени он резко вскидывался — так он спал с тех пор, как исчезли две трети его родителей. Проснувшись, он садился на койке и смотрел вдаль так, словно его взгляд проницал металлический потолок, словно это он и был глазами поезда. Тот же взгляд был у его матери, когда она, устав от утиля, устав собирать и чинить ненужное барахло, начала заглядывать в будущее в поисках другого занятия. Деро был слишком юн, чтобы помнить наследственное выражение лица той, от кого он его унаследовал, но сестра, увидев его однажды, задохнулась от изумления, ведь она помнила.