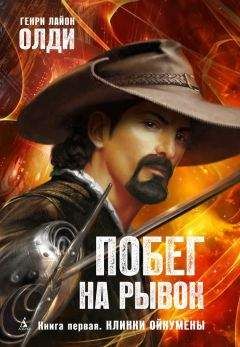– Порите, ваша милость! Заслужил!
– И выпорю!
– И ладно! Только дрова оставьте! Замерзнем ить!
Тут барин и высказался по-людски:
– Да иди ты на хер со своими дровами!
– Дык это…
– Проваливай! Дурак!
До Сидора не сразу дошел смысл господских слов. А когда дошел…
– Как прикажете, барин! Как прикажете! Дрова-то, конечно, не мои… Ваши они, ваши! Но ежели велите на хер, от щедрот господских, так мы мигом…
Он бормотал и приговаривал, не в силах поверить удаче. Барин, благодетель! Мог же и под плети кинуть, и дрова забрать, и… А пойти, куда велено – это мы с радостью, бегом, на карачках! Сидор уже забрался на дровни, когда мужик в простецкой рубахе, подпоясанной веревкой, что-то сказал барину по-иноземному.
Антон Францевич кивнул:
– Стой!
Сидор оледенел.
– Скидывай дрова!
– Да как же это?! – чуть не плача, возопил Сидор. Он шалел от ужаса: слыханное ли дело – барину перечить?! – Вы ж сами велели…
– Скидывай, я сказал!
– Да как же…
– Потом заберешь. В усадьбу поедем. Давай, живо!
Торопясь, Сидор принялся сваливать вязанки в снег. Кажется, ему помогали, но Сидор этого не запомнил – все вокруг плыло, как в тумане. Он опомнился, когда барин велел: «Трогай!» Обнаружилось, что за спиной Сидора в дровнях скорчились две женщины: дрожащие от холода, в легкой, совсем не зимней одежде. Сидор хлестнул Хрумку, и кляча потащила дровни в сторону господской усадьбы. Барин с артистами-мужчинами брели рядом, по обе стороны, и Сидор старался на них не смотреть.
У ворот черный, страшный сатана помог дамочкам выбраться из дровней.
– Проваливай, – махнул рукой барин. – И держи язык за зубами. Понял?
– Понял, как не понять… – испуганно зашептал Сидор.
Антон Францевич бросил ему кругляш, масляно блеснувший в свете луны:
– Держи за труды, балбес. Сгинь!
И заколотил в ворота кулаком.
Уже отъехав от усадьбы, Сидор разжал потный кулак. Сила морская! На ладони лежал золотой червонец. Вот это да! Он вернулся к месту, где свалил вязанки, погрузил дрова, в который раз полюбовался на монету – и щелкнул вожжами над Хрумкой:
– Н-но!
Усталая кляча брела, едва переставляя ноги. Сидор не стал ее подгонять: умаялась, бедолага. Ничего, скоро дома будем. Дуня набросится: где шлялся?! А Сидор ей: вот! И червонец под нос. Дрова, мол, тоже привез. И с барином словом перекинулся. И вообще!
Сила морская! Оглянулся Господь, снизошел…
II– Прохор! Открывай!
Кулак Пшедерецкого тараном бил в ворота. Удары выходили на славу: звучные, тяжелые. В окнах дома, плохо различимого за кружевом черных ветвей сада, загорелся свет. Глухо хлопнула дверь.
– Вали отсюда, пьянь! – донеслось с крыльца.
– Открывай, зараза! Я с гостями!
– А вот я собак спущу!
Яростный лай не замедлил подтвердить серьезность этого намерения.
– Прошка, сукин сын! – могучий рык Пшедерецкого с неожиданной легкостью перекрыл лай. Собаки в испуге заскулили, почуяв власть хозяина. – Открывай, мать твою! Убью!
– Антон Францевич?!
– Убью, сволочь!
– Убивай, благодетель! Бегу! Открываю!
Вспыхнули окна первого этажа, в них замелькали тени. Дверь как взбесилась, колотясь о косяк – раз, другой, третий. По ту сторону ворот заскрипел снег, послышались торопливые шаги. Лязгнул засов, массивные створки начали судорожно вздрагивать. За них дергали и тянули, но ворота поддавались с неохотой: под них намело кучу снега.
– Антон Францевич! Отец родной, с прибытием вас!
– Стол! Баню!
– Сей секунд, барин! Ох, да что ж это вы по-летнему?! Себя не бережете!
– Комнаты для гостей! Живо!
– В тепло давайте… Сенька! Петро, Ганна!
– Туточки мы…
– Слыхали, что барин велит? А ну, быстро, пчелками метнулись!..
Унилингва мешалась с местной певучей речью. Вокруг сделалось людно и голосисто. Ночь обернулась днем от света электрических фонарей, керосиновых ламп и факелов. Вот уже набрасывают на плечи шубу размером с добрый шкаф, подхватывают под руки, ведут, считай, несут в дом.
– Водки!
Двери распахнулись настежь. Навстречу коллантариям хлынула пестрая толпа, в центре, кособочась запойным пьяницей, плясал медведь. Шум, гам, радуга юбок, алый шелк косовороток. Белозубые улыбки, звон монист, сверкают серьги, блестят глаза:
– К нам приехал…
– …наш любимый…
Над бедламом взлетел, набрал силу гитарный перебор:
– Антон Францыч, дорогой!
Гитарист щеголял рубахой лилового атласа и хромовыми сапогами. Штаны натянуть он спросонок забыл или попросту не успел. Голые ноги посинели от холода, кожа взялась мелкими пупырышками, коленки тряслись, стучали друг о дружку, но героический музыкант лишь взвинчивал темп. Музыка вертелась, скакала, ходила колесом. Перед Диего, как по волшебству, возник серебряный поднос. Пышный каравай венчала солонка, дребезжали хрустальные рюмки, полные до краев.
– Угощайтесь, гости дорогие!
– С приездом, Антон Францевич!
– …милый друг Антоша…
– …друг ты наш Антоша…
– …друг Антоша, пей до дна!..
– Тоша-тоша, пей…
– До дна!
Маэстро не успел опомниться, как в левую руку прыгнула на редкость самостоятельная рюмка, а в правой оказалась поджаристая, еще горячая краюха, щедро сдобренная солью.
– До дна!
Водка ухнула в глотку. В животе вспыхнул огонь. Диего гулко выдохнул, опасаясь, что изо рта вырвется струя пламени, захрустел горбушкой. Лишь сейчас маэстро сообразил, что голоден как волк.
– Прошка, язви тебя в душу! – хохотал Пшедерецкий. В его веселости звучал болезненный надрыв, сулящий истерику. Дон Фернан не позволил бы себе такого поведения ни в кабаке, ни на эшафоте. – Ну, потешил, брат! Ублажил! Где цыган-то раздобыл? Посреди ночи, а?
Цыгане, с опозданием дошло до Диего. Ну конечно, эти шумные весельчаки – цыгане. С тех пор, как Террафима вступила в Лигу, и космические рейсы на родину Пераля сделались регулярными, цыгане объявились и в Эскалоне. Впрочем, от эскалонских бродячих актеров, танцоров, воров и конокрадов они мало чем отличались.
– Нарочно держал, Антон Францевич, – смеялся в ответ счастливый Прошка, красавец с седой львиной гривой. – К вашему возвращению! А они, ироды гулящие, все удрать норовили! Шило у них знамо где! А я им: я вам удеру, бездельники! Как я барина встречу? Какая ж встреча без цыган?!
Гвалт начал стихать, коллантариев повели в дом. Переступив порог, Диего, как в ванну с горячей водой, рухнул в плотное, хоть ножом режь, тепло протопленной усадьбы. Вокруг мелькали слуги, ловко огибая гостей: несли блюда, тарели, графины, столовые приборы, подносы с закусками. Пахло мясом, жареным на углях. Рот маэстро наполнился слюной, в животе постыдно забурчало. Есть хотелось так, словно приехал с голодного края. К счастью, томить гостей никто не стал: слово хозяина здесь было законом, а расторопность Прошки оказалась выше всяких похвал. Через пять минут, ополоснув руки горячей водой, все уже сидели в обеденной зале за столом, покрытым кружевной накрахмаленной скатертью.