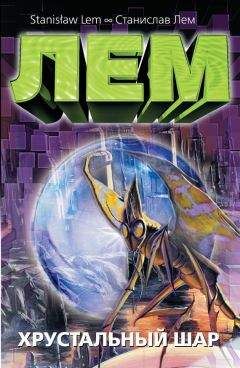Сережа передвинул вперед планшет, под мутным целлулоидным окошком которого зеленели квадраты карты. Минуту искал, водя пальцем по красным горизонталям. Но небо над ними темнело все быстрей, его голубой купол маячил смутно и высоко.
– Где-то за Королевской, – сказал он наконец, закрывая большим пальцем черное кольцо, – но не видно уже, товарищ старший лейтенант…
– Сейчас, сейчас. – Симонов пытался думать четко и быстро. – Мы проехали село, затем были те противотанковые рвы, правда? А за рощей началась перестрелка с «пантерами». Если фронт стоит… – Он замолк, удерживая дыхание.
Очень большая территория, темнеющая к востоку, простиралась далеко. В тишине раздавались далекие взрывы. Огонь орудий усиливался и затухал на линии горизонта.
– Похоже, что фронт стоит; видимо, прорвались только мы. – Он упал на живот, обеспокоенный Сережа склонился к нему, но лейтенант оперся руками о траву и медленно, с усилием встал. Он слегка качался на ногах. Шум в ушах накатывал волнами.
– Нечего тут сидеть, Галышкин, нам надо идти.
Он посмотрел на компас, прикрепленный к запястью. Тот был раздавлен – черно-серебристая стрелка висела, смятая, как мушиное крылышко.
– Солнце было у нас сбоку – туда.
Галышкин, обычно столь энергичный и полный уверенности в себе, молчал. Оба двинулись в тени пригорка, огибая его, пока не дошли до танка. Пахнуло дымом, разогретой краской и трупами.
Перед выходом на ровное пространство они осмотрелись – их фигуры должны были отчетливо чернеть на фоне неба. Не было ли здесь людских глаз?
Руины поднимались над холмом черными струпьями. Не слышно было ни шороха, где-то завыл пес, и этот звук, так сильно напоминающий приволжское село, вселил в старшего лейтенанта надежду.
Они вынуждены были пройти рядом с танком. Не сумев удержаться, Симонов ухватился за ворот башни, с трудом подтянулся на руках и заглянул через брешь, которую пробил снаряд.
Дыра была черной и выглядела как паук, который распрямляет конечности: длинные царапины трещин бежали в стороны. В центре темноты сиял желтоватый, слегка поблескивающий шар. Лейтенант наклонился пониже, вздохнул и спустился на землю.
– Что там? – забеспокоился радист.
– Ничего, ничего…
В лицо ему ударил трупный, горячий запах, он увидел верхушку черепа Глухова. Водитель сидел там, упираясь сильно обожженными ногами в педали и сжимая обеими руками тормозной рычаг. Вместо лица… Старший лейтенант содрогнулся: «Это мог бы быть я», – и двинулся вперед.
Они прошли вместе несколько сот метров. Симонов хромал, несколько раз останавливался, и только когда они оказались в окружении редких деревьев, он пошел бодрее и увереннее и не обращал внимания на радиста, который с хрустом давил ветки в двух шагах позади него.
В какой-то момент Симонову почудилось что-то темное между ветвями, он хотел остановиться, но его ослепил блеск фонарика, одновременно над головами прогремел выстрел.
– Halt![125]
Старший лейтенант метнулся в сторону, несколько раз наткнулся на деревья, петляя между ними на полной скорости. За ним раздавались крики, пули свистели над головой, ветки хлестали по лицу. Он долго, из последних сил бежал в полумраке, пока не упал. Долгое время он хватал, задыхаясь, ртом воздух и приходил в себя, пока не начал ощущать душистые запахи леса.
Наступила темная ночь. Симонов встал и двинулся вперед, не зная направления, вытянутыми руками ощупывая стволы деревьев. Он был уверен, что Галышкин мертв, и был уверен, что подходит его очередь. Он пытался это отбросить как чепуху, но слишком тяжелый окружал его мрак.
– Поминай как звали, кого вчера закопали, – прошептал он. На лбу у него выступил холодный липкий пот. Мрак шевелился, кишел звуками, дрожь бежала по земле.
Он шел вслепую, сжимая влажной рукой рукоятку пистолета.
Немецкие танкисты привели Галышкина в село, наградив его по дороге несколькими ударами. Они злились, что его товарищ сбежал. Спрашивали о чем-то, чего он не понимал, – среди них никто не знал русского. Впрочем, они ничего бы не узнали. Сережа не помнил, потерял ли он шлем или же его кто-то сорвал; он шел выпрямившись, окруженный черными танкистами, которые сжимали свои короткие автоматы на ремнях; он шел флотским шагом, враскачку, как моряк-революционер в пропагандистском фильме, и ветер играл его волосами. Ему вспомнился «Броненосец “Потемкин”». Глаза его в темноте были серыми и ясными. Он прошел испытание железом, пройдет и испытание кровью. Он повторял чужие слова из какого-то стихотворения, и сейчас они казались ему его собственными.
Наконец тумаками его направили к каким-то дверям, кто-то громко рапортовал внутри, лающим голосом произнося короткие слова.
Через минуту дверь открылась, оттуда хлынул свет («Откуда целая изба в этих руинах?» – мелькнула мысль у Сережи), и кто-то втолкнул его вовнутрь. В избе, освещенной карбидными лампами, сидели за столом два офицера. Вскоре прибежал переводчик. Светловолосый капитан с мягким взглядом и острым подбородком начал допрашивать Сережу. Раздались первые ворчливые, односложные ответы.
Немцы посмотрели друг на друга; капитан, словно перед нудной, но необходимой работой, встал и пересел на другую сторону стола. Более низкий широкоплечий Сережа внимательно посмотрел ему в глаза. В них не было ничего – спокойные блестящие огоньки.
– Übersetzen sie? Also wo befinden sich die Reserven?[126] – спросил капитан и замахнулся для удара.
От пылающей боли, от налитых густой кровью сосудов, от красных и черных лоскутов, от неожиданных ослеплений и вспышек он бесконечно медленно уходил в горы. Сквозь полное, тупое оцепенение проникли блуждающие иглы, наткнулись на его тело и начали колоть, разрывая на части. Он открыл глаза. Над ним поднималась черная колонна – сапог солдата. Он так и лежал на полу, когда на него кто-то прыгнул, избив ногами до потери сознания. Когда боль, причиняемая подкованными каблуками, стала сильнее той, которую он сам себе причинил, закусывая губы, он завыл, завыл страшно, низко, что, впрочем, на привыкших к подобным сценам офицеров не произвело никакого впечатления. Запыхавшийся капитан старательно одернул на себе мундир.
Много раз его поливали водой, ночь была бесконечно длинной. Сережа уже давно перестал повторять слова, исполненные пафоса; слова потеряли смысл, он оглох, ослеп, не было времени, чтобы думать. Он извивался как червяк от ударов, которые все время попадали в наиболее чувствительные места. В какой-то момент мучители опять выплеснули на него воду холодным потоком. Распухшие веки дрогнули, обнажая покрытые красными прожилками белки. Немецкий врач в мундире, с гладко зачесанными назад волосами склонился над ним, осторожно проверил пульс.