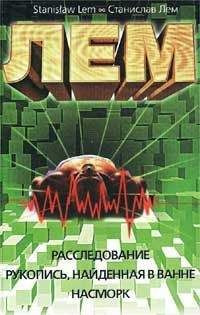Едва рюмки успевали наполниться, как их уже требовалось выпить, словно в этом было что-то неотложное, словно в любую минуту эту столь неожиданную, импровизированную пирушку что-то могло прервать.
Странным казалось также и чрезмерное оживление этих людей, которое никак не объяснялось несколькими выпитыми рюмками.
- Что это за торт? Прованский? - спрашивал с набитым ртом толстый.
- Хе-хе, прованский, - ответил ему Баранн.
Крематор хохотал, неся всякий вздор: шутки, прибаутки, пьяные присловья.
- Твое здоровье, Бараннина, и твое, труполюб! - проревел толстый.
- Танатофилия - это влечение к смерти, а не к умершим, невежда, отрезал крематор.
Вскоре разговаривать стало совершенно невозможно. Даже крики тонули в общем хаосе. Тост следовал за тостом, приглашение за приглашением. Я пил охотно, поскольку остроты и шутки моих собеседников казались мне до невозможности плоскими, и я старался утопить в вине мое омерзение и отвращение. Баранн, заходясь фальцетом, под собственное визгливое пение демонстрировал, вышагивая по салфетке сладострастно выгнутыми пальцами, танец пьяной пары, крематор то хлестал водку стаканами, то швырял огурцами в молодого человека, который не очень-то от них уклонялся. Толстый же ревел, как буйвол:
- Гуляй, душа! Ой-ля-ля!
- Гуляй! Эге-гей! - вопили в ответ ему.
Потом он вскочил на ноги, покачнулся, сорвал с головы парик и, швырнув его на пол, заявил, блестя потной обнаженной лысиной.
- Эх, гулять - так гулять! Друзья! Сыграем в западни!
- В западни!
- Нет, давайте в загадки!
- Хи-хи! Ха-ха!
Они ржали, кривляясь друг перед другом.
- За чувства наши братские! За счастья буйный пляс! - кричал крематор, целуя себе руки.
- А также за успех лечения. За доктора, приятели дорогие! Не будем забывать о докторе! - взвизгнул Баранн.
- Жаль, что нет девочек. Устроили бы танцы...
- Эх! Девочки! Эх, грех! Сладостные утехи!
- Эх, парад! Маршируют шпики! - выл толстый, не обращая ни на кого внимания, потом вдруг замолчал, икнул, окинул нас налитыми кровью глазами и облизнулся, показывая тонкий, маленький, какой-то девчоночий язычок.
"Что я тут делаю? - подумал я с ужасом. - До чего омерзительно это службистское низкопробное пьянство восьмого ранга! Как же они силятся быть оригинальными..."
- Господа! За ключника! За швейцара нашего! Виват, крематор! Виват, гульба! - пискляво кричал кто-то из-под стола.
- Да! Да здравствует!
- Залпом за него!
- Ручейком!
- Огурчиком! - нескладно вопил хор.
Мне стало даже жалко бедного юношу - как же мерзко они его спаивали, то и дело подливая ему. Толстый, с набрякшей, покрасневшей, словно грозившей лопнуть лысиной - лишь дряблая шея неестественно белела под ней - зазвонил о стекло, а когда это не помогло, швырнул бутылку об пол.
Звук бьющегося стекла вызвал мгновенную тишину, в которой он попытался заговорить, опершись на руки, но ему мешал душивший его смех. Он лишь подавал дрожащими руками знаки, чтобы все подождали. Наконец он выдавил:
- Гулянка! Товарищеская игра! Загадки!
- Ладно! - проревели все. - Пущай! Давайте! Кто первый?
- На равнине Дом стоит, жизнь вмещая бурную. Эх, люби же крепко ты душу агентурную, - это вопил Баранн.
- Господа, братья милые! - пытался перекричать его толстый. - Номер первый: кто видел инструкцию?
Ответом был взрыв хохота. Я содрогнулся, глядя на дергающиеся тела и разинутые рты. Крематор и юноша почти рыдали. Юноша пискнул:
- Ухо от селедки!
Снова удерживаемые нетвердой рукой рюмки со стеклянным звоном сошлись над скатертью. Умиленный крематор покрывал поцелуями теперь уже внутренние стороны своих ладоней. Баранн, сидевший напротив меня, опрокинул в рот рюмку водки.
Я обратил внимание, что при этом он ткнул краем рюмки в нос, и тот затем не восстановил свою форму, а так и остался с вмятинкой посередине. Хозяин носа этого даже не заметил. "Видимо, восковой" - решил я, но впечатления на меня это не произвело. Толстый, которому становилось все жарче, обнажился до пояса, повесил через плечо пижамную куртку и теперь сидел, поблескивая потом на густой растительности на груди, жирный, отвратительный. Затем он отстегнул и уши.
- Ибо здесь шпионства рай, рай здесь для шпионства! - вдруг стали петь на два голоса Баранн и юноша. Голубые глаза юноши блуждали теперь совсем уже безумно.
Оторвавшись от целования своих рук, крематор присоединился к ним, декламируя:
- Ты хватаешь эти документы! И читаешь эти документы! И глотаешь эти документы!..
- Господа, загадка номер два: что такое супружество? - плотоядно гудел раздетый апоплектик, похожий в таком виде на заросшую волосами женщину.
- Это наименьшая ячейка шпионства, - ответил он сам себе, так как никто его не слушал.
Раскрасневшиеся орущие лица раскачивались у меня перед глазами. Мне казалось, что Баранн, шевеля ушами, подает какие-то знаки крематору, но скорее всего это просто почудилось: оба они были слишком пьяны. Семприак схватил вдруг чужую рюмку, опорожнил ее, швырнул об пол и поднялся, пошатываясь, на ноги. Водка и слюни стекали у него по усам.
- Ну! Теперь ты совсем хорош! - кричали ему. - Господа! Внимание! Облик особы высокого ранга! Повышение ему соответствующее!
- Тихо! - проревел крематор.
Он был страшно бледен и покачивался, будучи не в силах удерживать равновесие. Широко расставив руки, он оперся о стол, откашлялся, вытер слезы и, скаля беличьи зубы, жалобно затянул:
- О, молодость моя! Детство мое святое, и ты, дом родной, отчизны сторона! Где же вы? И где ныне я давний-предавний? Где ручки мои маленькие с пальчиками розовенькими, крохотными? Ни одного их у меня не осталось! Ни одного! Прощайте... А глистам - нет...
- Перестань! - отрывисто бросил ему Баранн, оторвавшись от тщательного вынюхивания чего-то своим ставшим уже плоским носом. Затем смерил взглядом сидевшего рядом с ним юношу и, прикладывая ему ко рту горлышко полной бутылки, прошипел:
- Да не слушай ты его! - и придержал ему голову.
Принужденный пить, тот быстро опорожнил бутылку. Бульканье, которое при этом раздавалось, было единственным звуком в наступившей мертвой тишине. Крематор, прищуренными глазами следивший за понижавшимся уровнем жидкости, прочистил горло и продолжил:
- Ужель в ответе я за руку мою неловкую? За носище? За палец мой? За зуб сгноившийся? За скотство мое? Вот стою я тут пред вами, бытием изведенный...
Он замолчал, так как произошло нечто необычное. Худой, отнимая от губ молокососа опорожненную бутылку - тот тут же повалился ему на руки сказал спокойным трезвым голосом:
- Ну, довольно же.
- Хм? - буркнул апоплектик. Затем наклонился над полулежащим юношей, приподнял поочередно его веки и посмотрел в зрачки. Вроде бы удовлетворенный этим осмотром, он небрежно отпустил тело, которое с шумом повалилось под стол. Вскоре оттуда стал доноситься тяжелый, прерывистый храп.