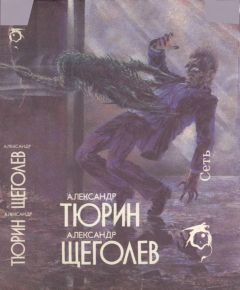По путям поднебным переносились сонмы ангелов наружности различной, с медно-желтыми, пурпурными и серебряными ликами, с телами звериными или же человеческого подобия. И власы их длинные как огонь веяли за ними. А над ними блистали, будто молнии, сотканные из пылающих, но непалимых нитей серафимы. И куда-то в золотую высь, к сферам далеких звезд, поднимались херувимы, с великим шумом бия хрустальными крылами…
Так легко вбежал Максим в град, стоящий на берегу речки Вологда, где за пряничными крышами Нижнего посада воспарял пятью золоченными главами Софийский собор.
Купола его отрывались от земли, обращаясь в сияние драгоценного камня. А сама земля представала ажурной узорчатой филигранью, которая плыла по волнам божественного дыхания.
Солнечные лучи, схожие с потоками золотистых вод, дробились в огромные светоносные капли, что прыгали с купола на купола, с церкви Елены и Константина на кресты Николы, с Иоанна Предтечи на церковь Покрова, с избяных крутоизогнутых коньков на стройные башенки теремов, с блестящих слюдяных оконниц на небесного цвета ставни, с резных наличников на расписные подоконники. Солнце насыщало изумрудом ярчайшим даже дерн, крыши покрывающий.
Бревнышки и досочки, из которых сотканы были хоромы, избы, харчевни, лавки, войлочные мастерские, кузницы, овины и мостовые, растягивались, истончались и превращались в вязь без конца и края между двумя океанами рая…
Нечто разорвало внезапно легкую вязь бытия – как шелк дорогого платья разрываем бывает злою рукой насильника.
Замер Максим, с недоумением глядя на собаку – облезлую, тощую, всю в подпалинах. Злоба так распирала ее, что лай превратился уж в хрипящий вой. То и дело ныряя впред головой, острой, как наконечник копья, пыталась она вцепиться в ногу Максима. Однако страх всякий раз останавливал ее, возгоняясь в еще большее остервенение. Едва удержался Максим, чтобы не поддать псине в бок. С трудом оторвав взор от подпаленной собачьей морды, от зраков ее очумело расширенных, оглянул Вологду.
Вокруг был ад. Насколько видел глаз – огнь пожирающий, багрянец угля, серый блеск пепла и праха. И дым над посадами, над градом и Заречьем, отравляющий красоту небес черной мерзостью.
Сделался град Вологда и посады его добычей мечу разбойному и пламени беспощадному. А жители вологодские, от мала до велика, достались чужому воинству на разорение. И гости, нежданные-непрошенные, круты да немилостивы оказались.
Догорал-дотлевал уже Нижний Посад. Жалким остатком от прежней жизни смотрелись лишь столбы печные и котлы почерневшие. В сгоревших хлевах и стойлах лежали прокопченные костяки скотьи. В пепелище обратились квасоварни, избы, риги, харчевни, корчмы, заведения канатные, колодцы, сараи, хлебные ларьки. Даже фашинник, улицу устилавший, собран был в кучи и сожжен. От церкви Покрова сохранились одни ворота, вход открывающие на раскаленные уголья. От кузницы остался одинокий крест, выкованный для новой церкви в Рощенье. Крест раскален был и горел красным светом.
На улице, а то, верно, была Козленская, в слякоти, бурой от истечения крови, лежали мертвые горожане, иссеченные клинком ино умерщвленные свинцом и зельем огненным. Промеж тел человеческих валялись сундуки и лари опустошенные, и разбитые люльки, и лавки с надлавочницами, и зело много тряпья, платки, рубахи, душегрейки – верный след от бесчестия и насилования жун.
И на деревьях висели тела человеческие – плоды насилия лютого. Одни были подвешены за ноги или за вывернутые назад руки. Иные скручены веревками – шея притянута к коленям – и так подвешены. Однако отмучились уже все, погибнув от удавления или боли смертной.
Что-то понеслось с другого конца улочки на Максима. С гиканьем и свистом. Максим, с испуга рванув из забора жердь, крутанулся вокруг себя с приседанием.
Хрустнула жердь, ломая себя и ноги налетевшего коня; свистнула вражеская сабля, не достав немного до темени Максима. Конь, подогнув переломанные ноги, стал падать, с пронзительным ржанием вздымая круп и бороздя мордой грязь. Из седла полетел черкас-разбойник, да и грохнулся головой в тын.
Баранья шапка свалилась с разбойного человека, открыв засаленный оседелец; из трещины на бритой голове выходила толчками густая, почти черная кровь. «Мати, почекай мене, матінка, не йди»,[5] – прохрипел черкас и сильно дернул ногами в сафьяновых сапогах. Голос его, ослабнув, утонул в нутряном бульканье. Напоследок протянул насильник руку, украшенную женскими перстнями, ухватил комок грязи, да и затих.
Максим бросился бежать от трупа, в сторону от улицы, по проулку между двумя дворами, такому тесному, что и плечам не развернуться было. И хоть сердце билось в нем, совсем как лесной зверек в силках, Касание вскоре остановило его. Максим раздвинул руками сломанные доски забора и вступил во двор.
Низина тут была, снег накопился, так что ноги приходилось перетаскивать с усилием.
Касание привело Максима к щели, полуприкрытой ветками и охапкой прелой листвы. Похоже на колодец, брошенный из-за того, что проникала в него гнилая болотная вода. Однако в колодезной глубине вроде скрывался кто-то. Максим представил было, что там, внизу, затаился нетопырь, погубивший Савватия. Но сразу устыдился своего представления. В колодезе притаилось нечто слабосильное, едва дышащее и безобидное, аки щен или агнец. А враг, враг оказался… сзади.
Оборотившийся Максим увидел воина, стоящего в каких-то пяти шагах. Был тот в кости широк и дороден, а подошел поступью бесшумной, как рысь. Нездешний воин, гость нежданный, не напоминал оный и заднепровского черкаса, расколовшего себе голову на улице. Облачен человек был на немецкий лад – шляпа, ботфорты, камзол, накидка теплая – шаубе. А пуховый платок, который он повязал для тепла на шею, да безбородые пухлые щеки делали его нечаянно схожим с бабами, продающими сметану в молочном ряду.
– Чего надобно? Какую-такую нужду здесь имеешь? – от страха пробормотал Максим и прикрикнул на пришлеца, как на пса одичавшего: – Пошел, пошел отсед. Не отягощай душу злодейством, Бог все видит.
– «Пошель», «пошель», – повторил человек, слегка коверкая звуки. Находясь словно бы в задумчивости ино вслушиваясь во что-то, неспешно вытащил он палаш из ножен.
Максиму все еще невнятно было, живое ли существо в колодце или только Голос. Но немец явно доискивался именно того, что там укрылось.
– Los, hau ab oder ich toete dich,[6] – заторопил немец Максима, будто даже с заботой в голосе. Убедительности ради провел чужак толстым, будто колбаса, перстом около шеи, а потом ткнул им в сторону Максима.
Бежать иноземного человека – несмотря на бабий платок, скор он на кровопролитие – бежать скорее. Однако из щели снова донесся звук скулеж, не скулеж?