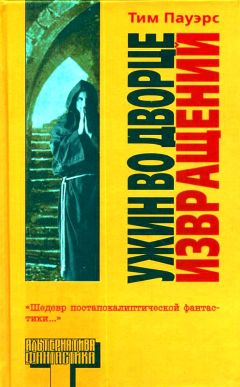Гитарное соло подошло к концу, он взялся за гриф, смычок завис над туго натянутыми струнами — и тут он заметил у барной стойки хорошо одетого пожилого мужчину. Его пробрал озноб даже прежде, чем до него дошло, кто это такой… и он пропустил свое вступление.
Гитарист удивленно оглянулся на него, но, быстро среагировав, повторил свою фразу.
Впрочем, ему пришлось проделать это еще раз, и самые внимательные слушатели поняли, что не все ладно, потому что Ривас наконец сообразил, кто такой этот пожилой тип, и сам уставился на него с изумлением, злостью и — несмотря на десять с лишним лет, прошедших с тех пор, — с изрядной долей страха.
— Грег! — настойчиво прошипел Фанданго. — Да очнись же!
Ривас зажмурился, как мог сконцентрировался на музыке и все-таки ударил смычком по струнам в нужный момент, после чего песня продолжалась как обычно.
Однако по окончании последнего куплета он дал музыкантам знак укоротить обыкновенно замысловатый финал. Фанданго послушно отбарабанил короткую завершающую дробь, и Ривас, значительно трезвее, чем был минуту назад, опустил инструмент и шагнул к краю сцены.
— Небольшой перерыв, — коротко объявил он, спрыгнул со сцены и подошел к барной стойке. Это удалось ему быстрее обычного, ибо даже самые набравшиеся завсегдатаи, похоже, ощущали исходящую от него угрозу и поспешно убирали с дороги ноги и стулья.
Когда Ривас остановился перед пожилым типом, он уже пришел в себя настолько, что начал догадываться, зачем этот тип здесь.
— Тут за кухней есть комната для приватных разговоров, — сказал Ривас голосом, который противоречивые чувства напрочь лишили выражения. — Подождите с объяснениями, пока мы не окажемся там вдвоем. Виски, — добавил он уже громче, обращаясь к Моджо. — Два двойных, живо!
Моджо поспешно наполнил два стакана, Ривас забрал их у него и повел пожилого типа от барной стойки к неприметной двери в углу.
— Возьмите где-нибудь лампу и принесите, — рявкнул пеликанист на своего пожилого спутника, держа стаканы в одной руке и открывая дверь другой. — Ну, быстрее — марш-марш!
Лицо старика перекосилось так, будто до него дошло, что обед его состоял из оставшихся от прислуги объедков и что от него требуется изъявлять благодарность даже за это. Однако он молча повернулся и принес лампу с углового стола.
Ривас стоял у двери и закрыл ее, пропустив в маленькую комнату старика с лампой. Собственно, это была даже не комната, а каморка, вся обстановка которой состояла из пластикового стола и нескольких стульев. Ривас сел на один из них и поставил виски на стол перед собой.
— Вам стоило сказать Спинку, кто вы, когда говорили с ним сегодня днем, — заметил он. — Он был бы польщен знакомством с человеком, который гонит эллейские деньги.
Старик со стуком поставил лампу на стол, пламя разгорелось чуть поярче, и на стенах закачались их искаженные тени.
— Нам обоим не пошло бы на пользу, — хрипло возразил он, — если бы люди узнали, что Ирвин Бёрроуз ведет дела с Грегом Ривасом.
Ривас отхлебнул виски и запил его большим глотком пива.
— Верно, — холодно кивнул он. — Собственно, зачем даже самому Ривасу знать об этом, а? Кого это вы подослали мне сегодня для переговоров — такого чувствительного? Он вел себя не слишком-то по-деловому: почти вызвал меня на дуэль.
Ирвин Бёрроуз задумчиво посмотрел на него.
— Не хотелось мне тебе этого говорить, — произнес он наконец, — но скажу, потому что мне кажется, это способно повлиять на твое решение. Монтекруза можно простить за некоторую горячность: видишь ли, он ее жених. Они должны… должны были пожениться в следующем месяце.
Ривас даже сам удивился тому, как больно задело его это известие. Он постарался отстраниться от эмоций и устало отметил про себя, что боль, которую он заботливо окучивал и культивировал тринадцать последних лет, свыкнувшись с ней как с чем-то ручным и домашним, снова одичала и вырвалась из-под контроля.
А в следующее же мгновение он испытал чувство глубокого омерзения к самому себе за то, что все его чувства и переживания сосредоточились на одной-единственной персоне: на нем самом, Грегорио Ривасе. Боже мой, подумал он, ведь прав этот сукин сын Монтекруз: для тебя все существует только до той степени, пока это ублажает или раздражает тебя, любимого.
Черт, и все равно я не буду выдергивать ее ради него.
Он поспешно опрокинул в рот остаток виски, но вместо блаженного помутнения, на которое он рассчитывал, пойло придало его мыслям неприятную ясность, и он с отчаянием осознал, что не позволит Сойкам заполучить ее.
Если бы я не знал, подумал он, если бы я сам, своими глазами не видел, как Сойер методично режет человеческое сознание на кусочки, пожирая души как огонь хворост, я бы, возможно, смог бы плюнуть Бёрроузу в лицо и выйти отсюда, гордо хлопнув дверью. Классный бы жест получился. Вы запретили мне возвращаться тринадцать лет назад — а теперь я не верну ее вам. Как, нравится? Вот так, щелчком по царственному носу… посылая Его Алкогольное Величество куда подальше, через ворота Догтауна… чтобы он умолял меня о помощи и не получил ее…
Если бы я только не знал!
Он еще раз проиграл в уме последнюю мысль, и еще раз, и обдумал то, что это означает для него самого, и с трудом удержался от дрожи, потому что она разом превратила его в простого, напуганного Грегорио Риваса.
В конце концов, он поднял взгляд.
— Вы правы, — произнес он, надеясь, что голос его не звучит хрипло от волнения. — Это не повлияет на мое решение. Я сделаю это.
Бёрроуз опустил голову.
— Спасибо.
— Когда они сцапали ее?
— Вчера поздно вечером. Она поехала на вечеринку — к северу отсюда, на углу Третьей и Фиговой, — и каким-то образом оказалась одна перед входом. Шайка этих ублюдков заговорила с ней — полагаю, тебе их вонючие трюки и фокусы известны не хуже, чем другим, — а когда ее безмозглый и ныне безработный телохранитель опомнился, Урания уже лезла в фургон Соек, а те нахлестывали лошадей.
— В каком направлении те уехали?
— На восток по Третьей.
— Один-единственный фургон?
— Так, во всяком случае, говорит телохранитель.
Ривас откинулся на спинку стула и рассеянно побарабанил пальцами по краю стола: он уже начал планировать новое избавление, первое за несколько лет.
— Вам стоило бы идти прямо ко мне, — сказал он наконец, — а не тратить время на то, чтобы пытаться подкопаться под мою работу здесь или подсылать ко мне этого своего клоуна. Но то, что фургон был всего один и что двинулся он на восток, это хороший знак. Это означает, что пастырь хотел набрать еще двух-трех рекрутов, прежде чем возвращаться в лагерь к своему каравану. Они могут все еще находиться поблизости. Стоят лагерем в одном из заброшенных кварталов за стеной.