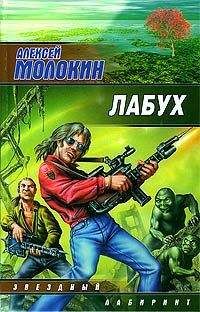— Это зависит от того, кто смотрит и кто трогает, — задумалась Дайана, потом спохватилась: — А ну, брысь отсюда, а то сейчас по ушам надаю!
— По ушам нам глухари ездили-ездили, да видно, все без толку, — мальчишка поковырял в ухе, — бросили это занятие, так что не надо нас пугать, тетенька!
Пацанва отбежала на всякий случай на безопасное расстояние и принялась наблюдать, как музыканты, беззлобно переругиваясь, грузятся в тесную спортивную машину.
— И чего это твой Лоуренс на тачке сэкономил, — знаменитый бас Мышонка никак не хотел становиться незаметным, торчал себе, как... В общем, мощно торчал, — купил бы такую же телегу, как у Густава, вот тачка так тачка, прямо-таки мобильный дом свиданий. Туда чего хошь поместится!
— Много ты понимаешь, — Дайана сидела за рулем вполоборота, с интересом наблюдая возню на заднем сиденье, — этот «родстер» стоит десяти таких мотосараев, как у Густава. Это же штучная работа, ручная, между прочим. Салон обит натуральной кожей, вставки из карельской березы, и все такое. Нет, не поймут тебя, Мышонок, в высшем обществе!
— Скажи еще, что кресла обтянуты натуральной кожей невинно убиенных музыкантов, тогда, пожалуй, мы стоя поедем или вообще пойдем пехом. Я, конечно, в обществе не вращаюсь — не пропеллер, однако, но насчет того, что все богатые глухари извращенцы — это мы в курсах.
— Не все, — Дайана отвернулась к рулю. — Лабух, кончай ты моститься сзади, садись рядом, или ты меня боишься? Так не бойся, когда я за рулем, у меня руки заняты. И ноги тоже. Впрочем, остаются губы, зубы и язык, так что, если хочешь сберечь остатки невинности, соблюдай дистанцию.
Лабух молча перебрался на переднее сиденье, пристроил гитару между ног и сказал:
— Ну ладно, взялась везти — вези. И кончай шуточки шутить. Испортило тебя общение с глухарями. Раньше ты была скромнее.
— Раньше ты был моложе, Вельчик, и куда проще смотрел на некоторые вещи, хотя даже не в этом дело. Раньше ты играл свою музыку для меня, а теперь... Не знаю, для кого, может быть, для клятых? Для кого ты играешь, скажи, а, Лабух? Ведь музыкант всегда играет для кого-то, а не просто заполняет музыкой пространство.
— Я никогда не играл только для тебя, не было этого. Ты, Дайанка, похоже, сама постарела, раз тебя на эти бабские штучки потянуло.
— На какие такие штучки?
— Ну, на сентиментальность, рефлексию всякую, выяснение отношений... Это у женщин возрастное, говорят, с физиологией связано! И вообще, отношение выясняют тогда, когда этих самых отношений уже почти что и нет.
— Много ты понимаешь в женской рефлексии, и вообще, кончай хамить... И все-таки ты играл для своих, и для меня в том числе. Все это было понятно и ах как здорово! А теперь... Я ведь слышала, как ты играл клятым, это совсем не та музыка, к которой легко привыкнуть.
— Я вон сколько лет играю, а все никак не привыкну к своей музыке. Нельзя привыкать. Я вообще не задумываюсь о том, для кого играю, для всех или для себя. Наверное, это одно и то же.
— Ох, Вельчик, а ты с годами научился лукавить. Получается, что ты и глухарям готов играть? Как-то это не похоже на матерого боевого музыканта!
— Пока не готов. И вообще, к чему весь этот разговор. Поехали, что ли!
— Точно, кончайте ворковать, — Мышонок с Чапой, наконец, угнездились на заднем сиденье, — мы поедем сегодня куда-нибудь или нет?
— Уже едем, — Дайана включила передачу, и «родстер» лихо, забросив лакированный зад, словно кошак, получивший легкий пинок, рванул в сторону небоскребов Нового Города.
— Красиво едем, красиво живем, — прокомментировал Мышонок.
Теперь Лабух мог как следует рассмотреть кварталы глухарей. В прошлую поездку, взвинченный после дуэли с Густавом, он практически ничего не увидел. Да и присутствие Лоуренса создавало, мягко говоря, определенные неудобства. Отвлекало. Теперь вот не было никакого Лоуренса, но чувство неудобства оставалось. Хотя...
«Родстер» лихо катил по просторным свежевымытым улицам мимо ухоженных, каких-то уверенных в себе и своих обитателях домов. По тротуарам, мощенным терракотовой плиткой, гуляла утренняя несуетливая публика, никто не прятался в темных дворах, не видно было ни хабуш, ни пастухов, ни подворотников. И вдруг Лабух понял, что именно эта чистота и создавала ощущение неудобства и опасности. Этот мир жил в себе и для себя, и он, Лабух был в нем наглым самозванцем, вроде уличного пацана, невесть как забравшимся в чужую роскошную машину.
На какой-то миг у него возникло острое желание стать своим в этом прекрасно обустроенном мирке благополучных, сытых и, наверное, счастливых людей. Лабух поймал себя на том, что на его собственной, многажды разбитой в бесчисленных стычках физиономии проступает выражение уверенности и довольства, совсем как у здешних прохожих.
— Кажется, Дайану можно, во всяком случае, понять, — пробормотал он. — Экая это, однако, завлекательная штука — благополучие. Вот нет его у тебя, а все равно ты прикидываешься, что все просто здорово, что все как надо. А может быть, все эти счастливые глухари тоже прикидываются, может быть, у них так принято? Может быть, они на самом деле сомневаются в своем праве жить лучше других?
— Слушай, Дайанка, как же ты со своим глухарем разобралась? Расскажи старым приятелям, что такое ты с ним сделала, что он вдруг ни с того ни с сего закочумал, — Мышонка, похоже, город глухарей не очень интересовал, он вообще был практичным музыкантом и любопытство проявлял только тогда, когда это его хоть как-то касалось, — чем это ты его так с утра притомила?
— Чем, чем... — Дайана нахмурилась. — Дала по башке, вот он сразу и притомился. Он меня уж вовсе стесняться перестал, своя, значит, в доску. При мне распоряжения музпехам отдавал. Насчет аквапарка. Ну я и отреагировала адекватно.
— Понятно, — Лабух с интересом смотрел, как ловко Дайана лавирует в леденцовом потоке автомобилей, он, наверное, так бы не смог. А может быть, смог бы, кто знает? — Стало быть, музпехи тоже в аквапарк собираются?
— Я не знаю почему, но Лоуренс проговорился, что музпехам в аквапарке делать нечего. Сказал, что уже поздно и предотвратить концерт нельзя. И еще приказал музыкантов в аквапарк пропускать беспрепятственно, все равно оттуда вряд ли кто выйдет. Так и сказал. Он меня не хотел отпускать, поэтому я ему и врезала, — призналась Дайана, — а вы что подумали?
— Бережет, значит, — Лабух задумался. — Музпехам нельзя, а звукарям можно? А эти куда?
По кольцевой дороге, занимая левую полосу, двигалась колонна патрульных машин, битком набитых музпехами. Сплюснутые оранжево-белые бронемашины с разверстыми раструбами глушилок и морщинистыми стволами стационарных излучателей, похожие на диковинных клопов, уверенно ползли по своим глухим делам. Наверное, у рядовых глухарей эта вызывающе размалеванная колонна должна была вызывать чувство гордости и защищенности, но музыкантам стало неуютно и тревожно.