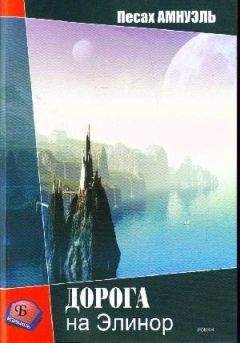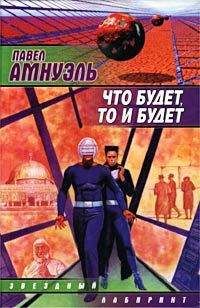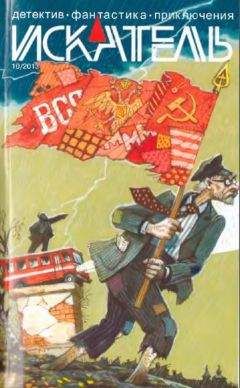— Мир, — пробормотал Терехов. — Не другой мир. Просто мир. Настоящий…
Настоящий, — подумала Жанна, и он услышал ее мысль, она передалась ему через пальцы, лежавшие на затылке, и еще ему передалось, что Ресовцев, конечно, знал что делал, и не собирался он умирать, не уходил из жизни, а возвращался в нее, не покидал мир, а оставался в мире. Нужно это понять — не обыденной логикой, а истинной, той, что позволяет вернуться в прошлое, оставаясь в настоящем, и узнать будущее, перебросив его в далекое забытое прошлое…
* * *
— Я ищу его в себе, — сказал Терехов, — и не нахожу.
— Не старайся, — сказала Жанна. — Все в подсознании. Придет само.
— Или не придет… — пробормотал Терехов. — И как тогда жить?
— А как я жила с Эдиком последние годы? Он понимал, я — нет.
— Хочу попробовать еще раз. Увидеть. Почувствовать. Это программа так влияет — на зрение, слух, да?
— Володя, при чем здесь программа? Просто спусковой крючок. Эдику она стала не нужна, когда он открыл общий закон сохранения и понял, как им пользоваться.
— Господи! — сказал Терехов. — Мне кажется, я вспомнил. Сейчас…
— Не нужно вслух, — попросила Жанна. — Я вижу, что ты думаешь. Просто вспоминай, хорошо?
— Да. Да…
В тот вечер он выпивал с Пашкой Брилевым в ресторанчике со странным названием «Толстяк». Уютное заведеньице, открытое совсем недавно и, видимо, претендовавшее на особую клиентуру — людей, желавших сбросить лишний вес и потому соблюдавших крутые диеты, которыми повара в «Толстяке» могли их обеспечить. Терехов толстым себя не считал, хотя за последние недели поправился килограммов на пять, а Пашка и вовсе был худ, как жердь. В отличие от Терехова, он любил хорошо поесть, а в «Толстяке», как он слышал, готовили удивительно вкусные овощные тефтели — для похудания, конечно, но ведь с одного раза не похудеешь.
Они сидели у окна, глядели на десятки солнц, отражавшихся в окнах дома напротив, удивлялись тому, какие все солнца разные — в одном окне отражение было ярко-оранжевым, в другом — зеленоватым, будто из бутылочного стекла, в третьем — бледно-желтым, как свежий яичный желток, а в крайнем окне справа солнце отразилось длинной узкой белой полосой и вдруг исчезло, испустив на прощание угасающий вопль в виде короткой неяркой вспышки.
О чем говорили? О литературе, естественно. О чем еще они могли говорить? Брилев, как и Терехов, ждал выхода в свет своей книги и порывался пересказать ее содержание, а Терехов этого терпеть не мог.
— Ты не слушаешь, — обиделся, наконец, Пашка. — Ты хоть понимаешь, что еще через пару лет пересказывать сюжеты никто не будет по той простой причине, что не останется ни сюжетов, ни фабулы? Исчезнут, растворятся в тексте.
— Да ну, — отмахнулся Терехов. — Не преувеличивай. Если десяток графоманов решили обойтись без сюжета ради собственного самовыражения, из этого еще не следует, что все бросятся писать бессюжетные вещи. Чушь какая! Триллер без сюжета — нонсенс! А нынешняя литература без триллера — нонсенс в квадрате!
— А что? — оживился Брилев. — Хорошая идея. Именно триллер без сюжета. Да что я говорю… Можно подумать, в нынешних триллерах есть сюжет! Беготня, стрельба, драки, свой или чужой — не разберешь, финал отменили, как буржуазию после Октябрьской революции. Все открыто для следующей серии…
— В моих триллерах, — гордо сказал Терехов, — сюжет есть. На днях у меня выйдет книга…
Он осекся. Мог ли он пересказать сюжет «Элинора»? Был ли вообще сюжет в этой книге? Читалась она на одном дыхании, но это не было дыханием сюжета. Это было чужое угрожающее дыхание в затылок, когда хочется быстрее бежать, чтобы преодолеть, закончить, закрыть и… забыть?
— Ну, — сказал Семин, разливая по рюмкам остатки водки из графинчика, — не нужно сюжет, скажи хоть, как называется. Наверно, что-нибудь вроде «О смерти не говори — о ней все сказано»?
— Нет, — протянул Терехов. Может, он слишком много выпил, но что-то изменилось в его сознании, в ощущениях, воздух потерял прозрачность, мельчайшие мошки влетели в зал и мельтешили перед глазами, застилая обзор, а может, это не мошки были вовсе, откуда в Москве столько мошек, и никто ведь, кроме Терехова, их не видел, никто не размахивал руками перед лицом, разгоняя мелюзгу, и Паша тоже смотрел спокойно, даже вальяжно, если можно говорить о вальяжности взгляда, с каким-то превосходством; конечно, Брилев всегда считал себя писателем повыше рангом, чем Терехов, он, видите ли, о жизни писал, о любви и дружбе поколений, а Терехов о преступлениях, нет, мошек Пашка не видел, это точно, и значит, не мошки это вовсе, а — Терехов вдруг понял совершенно отчетливо, — молекулы воздуха, те самые, которые видеть человеку не дано…
Мошки-молекулы устремились к выходу, возник ветер, ураган, давление которого ощущал лишь Терехов. Брилев, сидя напротив, что-то говорил, но звуки до Терехова не доносились и не могли доноситься — звуки не распространяются в безвоздушном пространстве, а воздуха в «Толстяке» не осталось, воздух вместе с мошками (или мошки вместе с воздухом?) устремился на улицу, Терехову пришлось встать и бочком, чтобы не задеть, не потревожить живую воздушную массу, шаг за шагом перемещаться к двери, а потом через холл на улицу, он еще успел подумать, что надо бы заплатить за обед, не сваливать же все на Пашку, тот ему в жизни не простит, и в это время рядом возник официант и говорил что-то; Терехов, не глядя, сунул в протянутую руку ассигнацию, возможно, сотенную, а может, более крупную, официант отстал, растворился в мерцавшем воздухе, Терехов рванул на себя дверь, тяжелую, как танк, вывалился на улицу…
И все прошло. Сразу. Какие мошки? Чистый вечерний воздух, пропахший сложной смесью скошенной травы, бальзамов и — как же без него! — бензина. А еще был запах домашнего пирога и жаренного мяса, и теплых детских пеленок и еще чего-то, что следовало вдохнуть полной грудью и принять в себя…
Запах вел Терехова, будто охотничьего пса, взявшего след лисицы. Терехов быстро шел по бульвару, а потом по узкой и длинной улице, названия которой не знал, а смотреть на таблички не мог, потому что все ощущения сосредоточились в обонянии. Он шел, даже бежал где-то, сворачивал влево, вправо, мыслей не осталось, одно лишь желание — дойти, не потерять след.
Перед ним возникла темная дверь с золоченной ручкой, слегка облезлой, как и положено дверной ручке, к которой каждый день прикладывались десятки ладоней, оставляя свои следы и снимая — молекулу за молекулой — бронзовую тонкую позолоту.
Он вошел, оказался перед лестницей и начал по ней подниматься — уверенно, будто к себе домой, хотя никогда не был здесь прежде и не знал, зачем пришел и к кому.