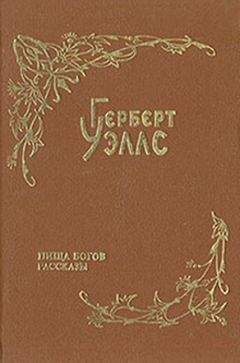— Дело в том, сэр, — почтительно прервал молодой человек, — что гиганты не хотят ни с кем говорить, кроме вас. Они настаивают на необходимости вашего посредничества, а если вы в нем откажете, то я боюсь… я боюсь, сэр, как бы кровопролитие не возобновилось.
— Тем хуже для вас.
— Нет, сэр, для обеих сторон… Мир решил отделаться от гигантизма.
Редвуд посмотрел вокруг, и глаза его остановились на портрете сына. Подумав немного, он наконец сказал посланцу Катергама:
— Ну, хорошо, поедемте.
Встреча его с Катергамом состоялась совсем не так, как он предполагал. Он видел последнего только два раза в жизни: один раз за общественным обедом, а другой — в кулуарах палаты, и потому представлял его себе в том виде, в котором газеты и карикатуры рисовали «Джека — убийцу гигантов».
Короче, Редвуд знал только легендарного Катергама, на которого действительный Катергам был совсем не похож.
Входя в кабинет государственного деятеля, Редвуд увидел совсем не то лицо, которое рисовалось в его воображении. Темнокарие глаза, черные волосы и орлиный профиль великого политика были, правда, на своем месте, но лицо его не выражало ни высокомерного презрения, ни силы, ни напускной важности. Если отбросить всякую риторику, то перед Редвудом стоял маленький, слабый, измученный бессонницей человек, с синевой под глазами. Человек этот, видимо, тратил последние силы и мучился. Принял он Редвуда довольно бодро, то тотчас же и изменил себе — одним жестом выказал, что держится исключительно на лекарствах: не успев сказать нескольких фраз, полез в жилетный карман, вынул какую-то лепешку и потихоньку положил ее в рот.
Более того, несмотря на свою усталость, несмотря на то, что он был моложе Редвуда лет на двадцать, несмотря на то, что он наделал множество ошибок, Катергам все-таки обладал каким-то магнетизмом, если можно так выразиться, дававшим ему преобладание над собеседниками. На это Редвуд тоже не рассчитывал. С первой минуты он захватил нить разговора, придал ему такой тон и направление, какое хотел. Это случилось само собой. Войдя в кабинет, Редвуд сразу растерялся и пожал протянутую ему руку, чего делать не хотел. Затем Катергам начал ясно и просто говорить о средствах прекращения катастрофы.
Говорил он пространно, спокойно, как в парламенте, и даже один раз сказал «милостивые государи». Только усталость иногда давала себя знать, и тогда Катергам выпрямлялся (во все время аудиенции оба собеседника стояли) и снова глотал лепешечку.
Редвуду очень редко приходилось отпускать замечания, так что он, в конце концов, стал себя чувствовать простым слушателем какого-то необыкновенного артистического монолога, произносимого увлекательным голосом и с самой убедительной интонацией. Монолог лился бесконечно, то приводя неотразимые доводы, то поражая напряжением энергии, но мысль говорившего, очевидно, могла идти только по одной заранее определенной линии, не сворачивая в сторону и не обращая внимания ни на какие препятствия или побочные обстоятельства. Вместо антагониста, подобного себе человека, с которым можно говорить и спорить, которого можно сделать нравственно ответственным за совершенные им поступки, Редвуд встретил что-то вроде носорога, цивилизованного носорога, выскочившего из парламентских джунглей и сломя голову мчавшегося вперед по прямой линии. На этой линии ничего не могло остановить или задержать разъяренное животное, а по сторонам оно не смотрело. Такие люди как бы для того и приспособлены, чтобы прокладывать себе путь через толпу. Для них нет ошибки, нет бедствия ужаснее логического противоречия, нет науки важнее механического «согласования интересов». Экономическая действительность, топографические неудобства, психологическая невозможность для них так же существуют, как нарезные пушки, железные дороги или географическая литература не существует для их прототипа — носорога. Они понимают только митинги. Они сами — воплощенные голоса, хотя бы за этими голосами и не чувствовалось никакой движущей идеи.
И вот теперь эта непобедимая говорильная машина была пущена в ход.
Из слов Катергама было ясно, что он и теперь еще, в минуту разразившегося кризиса, не имел о нем никакого понятия. Он не знал и не хотел знать, что существуют на свете такие физические и экономические законы, такие действия и противодействия, которых никто отменить не в состоянии и сопротивляться которым можно только ценою полной гибели. Он не знал, что существуют моральные импульсы, не подчиняющиеся никакому «общественному мнению», не заглушаемые никаким криком большинства. Ясно было, что и от шрапнели этот человек спрячется за какой-нибудь лукавый билль палаты общин.
В настоящее время его, видимо, занимало не самое дело, не силы, друг с другом борящиеся на жизнь и смерть, а вопрос о том, как это все будет принято «парламентским большинством» — единственной реальностью, доступной его пониманию. Ему надо было или разбить гигантов, или утонуть в толпе, отказаться от власти, то есть перестать олицетворять собою парламентское большинство. Несмотря на неудачу, на грубые ошибки, на невозможность непоправимых общественных бедствий, несмотря на то, что руки его были уже обагрены кровью и могли обагриться ею еще более, он все-таки не терял надежды, даже верил, что речами, разъяснениями, определениями, постановлениями можно поправить дело, и разорванную цепь можно вновь сделать целой. Он был поражен и огорчен, без сомнения, а кроме того, страшно утомлен и измучен, но… если бы только сохранить свое влияние на большинство, если бы опять уговорить…
Пока Катергам говорил, Редвуду казалось, что тот то расширяется, то съеживается, то удаляется, то приближается. Собственная роль Редвуда при этом свидании оказалась самой ничтожной. Он едва имел время вставлять односложные фразы, вроде: «Это неправда!», «Нет», «Вольно же вам предполагать это!», «Зачем же вы тогда начинали?»
Сомнительно, однако, чтобы Катергам слышал эти фразы. Речь его обходила выражения Редвуда, как река обходит скалу. Этот невероятный человек стоял в своем официальном кабинете в своей официальной позе и говорил, говорил без конца. Говорил красиво, убедительно, не переставая ни на минуту, как бы из боязни, чтобы во время паузы не ворвалось в его соображения что-либо постороннее, противоречивое, и не воплотилось, таким образом, в слово — единственное воплощение, которое он понимал. Стоял он среди банального и слегка подержанного великолепия казенной обстановки, в которой его противники один за другим изнемогали под тяжестью веры в парламентаризм. Монотонно покачиваясь и постукивая по стеклу, один только лист гигантского плюща затемнял снаружи своей тенью всю комнату.