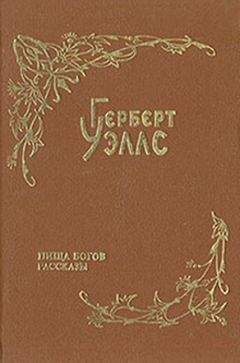Чем более он говорил, тем более речь его казалась Редвуду лишенной содержания. Понимал ли этот человек, что, пока он тут говорит, вселенная не перестала жить? Понимал ли он, что непобедимый прилив гигантизма и за это время не переставал разливаться по земной поверхности? Да полно, знал ли он кроме всего этого, что время существует не для одних только парламентских прений и что за пролитую кровь имеются и другие наказания, кроме парламентской цензуры.
Редвуду страшно хотелось наконец прервать этот безудержный монолог и вернуться к делу, к здравому смыслу, к осажденному лагерю, где находился его раненый сын. Ради сына он и терпел до сих пор безудержное красноречие Катергама, но теперь начинал уже чувствовать, что еще немножко — и оно отвлечет его внимание в сторону, загипнотизирует, усыпит. С голосом знаменитого оратора приходится бороться физически, как и с пассами гипнотизера.
В том освещении, которое Катергам придавал фактам, они бледнели и терялись, как в тумане. Легко было совсем потерять их из виду.
Что, собственно, говорил этот человек?
Все — и ничего. Очень пространно, очень картинно и очень пусто. Много было сказало относительно кровопролития — как оно неуместно, нежелательно, вредно. Много было сказано относительно гигантизма — как он уродлив, противен природе, недопустим. Но все это не имело никакого практического значения и ни к чему не вело. Главный пункт речи Катергама состоял в предложении сойтись на компромиссе.
Он предлагай гигантам сдаться на капитуляцию, уйти из общества маленьких людей и образовать свое собственное.
— Но где же? — едва успел вставить Редвуд.
На этот раз красноречие Катергама, ударившись, о препятствие, потекло по другому руслу. Взглянув в первый раз в лицо Редвуду и придав своему голосу самую убедительную интонацию, он начал разглагольствовать о прелестях и удобстве такого отдельного жития, а что касается места, которое может быть отведено, то это он считал вопросом побочным, подлежащим решению впоследствии. Закончил он требованием, чтобы «Пища богов» производилась только там, где будут жить гиганты.
— А как же принцесса? — вставил Редвуд.
— Ну, принцесса — дело особое; наш разговор ее не касается.
— Но ведь это же нелепо! — воскликнул Редвуд.
— Об этом мы поговорим после. А теперь, так как мы согласились, что производство Пищи должно быть прекращено…
— Я ни в какие соглашения еще не входил, — прервал его Редвуд.
— Однако не могут же на земле жить одновременно две расы: большая и маленькая! Если раса гигантов будет размножаться…
— Ну, я с вами спорить не стану, — сказал Редвуд. — Я хлопочу только о моем сыне и его товарищах. Из-за этого и явился к вам. Скажите определенно, чего вы от них хотите?
Говорильная машина опять заговорила.
— Гигантам будет дано всяческое удовлетворение, они могут прекрасно жить (где-нибудь в Северной Америке или Южной Африке) на свой лад, никому не мешая, устраивая свою жизнь, как хотят…
И пошло, и пошло…
— Но ведь это же невозможно! — воскликнул Редвуд. — Гигантов теперь много, они рассеяны по всему миру! Как вы их соберете?
— О, мы устроим интернациональное соглашение! Это не трудно. Мы даже уже договорились об этом. Но, подумайте, как будет хорошо! Гиганты станут жить отдельно, по своему вкусу, никому не мешая, и им никто мешать не будет. Пусть делают, что хотят и как хотят. Мы даже будем очень рады завязать с ними торговые сношения. Они могут быть вполне счастливы! Подумайте об этом!
— Но ведь с условием, что у них не будет детей?
— Разумеется. Размножаться им позволить нельзя. Таким образом, сэр, мы спасем мир от ужасных последствий вашего открытия. Пока еще не поздно. Но мы хотим быть гуманными — при надлежащей твердости не забывать и о милосердии. Вот сейчас мы выжигаем те места, в которые вчера и сегодня попали их бомбы. Надо, чтобы Пища выгорела. И будьте уверены, мы ее уничтожим, чего бы это ни стоило. Таким образом, без излишних жестокостей, без нарушения чьих-либо прав…
— А если гиганты не согласятся? — возразил Редвуд.
— Как не согласятся? — с удивлением воскликнул Катергам. — Они должны согласиться.
— Не думаю, чтобы они захотели.
— Да почему же им не захотеть? — воскликнул опять Катергам с удивлением, достигшим крайней степени.
— Однако, представьте себе, что это случится.
— Ну… что ж! Тогда уже, конечно, война. Не можем же мы допустить гигантизм. Поймите, сэр, что мы этого не можем! Неужели вы, ученые люди, лишены воображения? Неужели у вас нет даже жалости? Мы не можем отдать нашу планету на жертву таким чудовищам и чудовищным растениям, каких расплодила ваша Пища. Мы не можем, не хотим, не смеем! И заметьте, что пока еще все дело только начинается. До сих пор оно ограничивалось только уличными беспорядками и полицейскими. Но ведь за нами стоит вся нация, все человечество! За тысячами погибших стоят миллионы! Если бы я не боялся кровопролития, сэр, то за первыми атаками последовали бы другие, борьба шла бы и теперь. Можем или нет мы уничтожить вашу Пищу, но гигантов-то перебить мы, разумеется, можем. Если вы полагаете, что какие-нибудь полсотни чудовищ могут противостоять силам всего нашего народа и всего рода человеческого, который придет нам на помощь, то вы жестоко ошибаетесь. Если вы думаете, что ваша Пища может изменить натуру человека… Ступайте к ним и передайте им мои предложения! — неожиданно закончил Катергам свою речь величественным жестом руки. Должно быть, ему самому, наконец, надоело повторять одно и то же.
Наступила маленькая пауза.
— Ступайте к ним, — повторил Катергам.
— Хорошо, я пойду, — сказал Редвуд.
Аудиенция кончилась, и Катергам как-то вдруг съежился, превратившись опять в маленького, старенького, желтолицего, изможденного человека. Он сделал шаг вперед, как бы выступая из картины, и с любезной улыбкой протянул Редвуду руку в доказательство того, что за всякими стычками в общественных делах современных культурных людей лежит неизменное личное дружелюбие.
Редвуд тотчас отправился на поезд, идущий к югу, через Темзу. Проезжая по мосту, он на минуту увидал реку, отражавшую в себе огни набережных, и дым, который все еще поднимался с тех мест на северном берегу, где упали бомбы гигантов. Множеств народа толпилось на этих местах, занимаясь систематическим выжиганием Гераклофорбии, разбросанной бомбами по земле. Южный берег тонул во мраке. По каким-то соображениям даже уличные фонари были потушены. На фоне неба рисовались только мрачные силуэты пожарных и сторожевых башен. Кроме них, видны были несколько самых высоких зданий. Рассеянно взглянув на все это, Редвуд отвернулся от окна и погрузился в размышления.