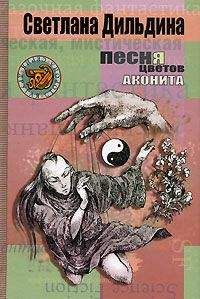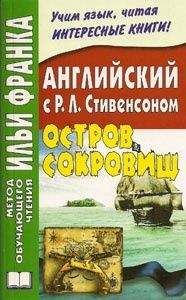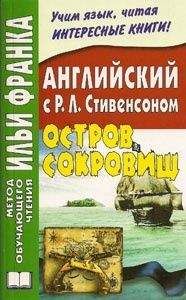Проговорил — и заметил с удивлением, как лицо Йири застыло. Из-под сомкнувшихся ресниц на щеку стекла прозрачная капля.
— Что с тобой, мальчик? Ты плачешь? Посмотри на меня!
Он подошел, склонился к кровати.
Повинуясь приказу, Йири открыл глаза. Попробовал улыбнуться — на сей раз получилось плохо. Но слабость — это не то, что нужно Благословенному…
— Не делай этого, слышишь? Я не хочу от тебя притворства, — потребовал Солнечный, и, уже мягче, добавил:
— Ты мне дорог таким, какой есть.
— Какой есть? — повторил едва слышно Йири. — Может, и так…
У него не осталось сил говорить.
* * *
Повелитель назвал имена. Двое. Спросил:
— Ты их знаешь?
— Да.
— Ты считал их врагами?
— Я не обращаю внимания на тех, кто внизу, мой господин.
— Напрасно…
— Они — просто глупцы, хоть и стоят высоко. Вельможи из Первого и Второго круга так бы не поступили.
— Верно… Они добились высокого звания при дворе. Но остались трусами и глупцами. Хочешь увидеть, что с ними будет?
— Мне достаточно знать об этом.
Юкиро усмехнулся.
— Теперь тебя вряд ли посмеют тронуть — во всяком случае, подобные побоятся. А лучшие будут ждать и смотреть. Что ж… они не знали, сколь много стоит твоя жизнь.
— Этого не знаю и я.
— Узнаешь, — Благословенный прищурился. — У них есть семьи — и родичи. Они тоже ответят. Отдаю их тебе. Решай сам…
— Я не могу… — голос вдруг отказал.
— Назначь цену сам.
— Иями! — вырвалось у него. Лицо стало бледнее, чем когда он лежал при смерти.
— Если такова ваша воля…
— Я хочу, чтобы решал ты. О твоем решении будут знать — это не будет мое слово.
— Хорошо, господин, — сказал он тихо — словно занавески задернулись с холодным шуршанием шелка. — Я знаю, что делать.
Повелитель внимательно посмотрел на него.
— Кажется, ошибались те, кто считал тебя безобидной игрушкой.
Он лежал ничком, спрятав лицо, стараясь вжаться в светлые покрывала. Пальцы то распрямлялись, то судорожно сжимались в кулаки. Когда явились слуги причесать волосы, одеть — закричал, чтобы шли прочь. До этого он и голоса на слуг не повысил ни разу. Когда повелитель спросил о нем — те испуганно отвечали, что не готов, что не желает их видеть. Повинуясь приказу, снова пришли — на этот раз он терпел, отворачивая лицо, словно любые прикосновения причиняли боль. Тот, в темно-малиновом, не говорил ничего. Потому что уже сказал достаточно.
«Отдаю их тебе».
Кому — «тебе»? Не юноше, которому ничья кровь не нужна. А любимой игрушке, которую вознесли, одарив благосклонностью. Поздно говорить «нет».
На рисунке был водопад — к нему слетались черные птицы. Странно блестела роса на крыльях. Цвета пожухлой листвы — поздняя осень, краски севера. А вода — отчаянно-светлая, словно живая, падает с камня. Кисть летала, касаясь бумаги, замирая на миг…
Все, кто родился мужского пола в семействах обоих виновных, были убиты. Женщин увезли далеко, не позволив взять с собой ничего. Молчали на Островке — нечего было сказать, и отныне — боялись. Событие в Храме могло быть игрой. То, что случилось потом, игрой не было.
Если и оставались вопросы, больше никто не осмелился бы их задать. За покушение на жизнь кого-то из Золотого дома платят все. Но и за тех, кто отмечен Солнечным, нельзя брать малую плату. Нельзя.
Ёши избегал смотреть на Йири. Он не осуждал его — тот поступил честно. С собой и с другими, живущими на Островке. А юноша держался на редкость спокойно — и Ёши чувствовал себя неуверенно рядом с ним.
— Я не из Золотого дома, — сказал врачу Йири. — Но если Благословенный хочет, чтобы тень крыльев Ай-Ти тронула чью-то тень, должно быть так. и так будет. Не моя жизнь стоит дорого — его воля.
Он замерзал тогда под тощим одеялом в начале месяца Волка. И казалось, это не дрожь, а бег огромного зверя, бег, сотрясающий землю. Он хотел спать — но выбрался наружу и сел у погасшего круга костра. Караульный окликнул его, предложил что-то теплое… Йири котел в тепло, однако боялся, что перестанет чувствовать бег лап в ночи. Он, как мог, объяснил это охраннику — и его вновь не поняли.
Кенну потом смеялся над ним. Он всегда смеялся. То задорно, то зло. Тогда, давно, он казался Йири намного старше его самого. Теперь Йири считал старше себя, хотя Кенну было девятнадцать, когда он умер. Йири девятнадцати ждать еще долго.
А здесь нет живой тени созвездий.
И холодно по-другому.
Несколько дней прошло. Благословенный был занят — и они почти не виделись. Иримэ направила посыльного — не решился идти к ней. Ёши заглядывал иногда — обязан был это делать, асаланта долго о себе напоминает. Заставал его у окна. Казалось, и не шевельнется. Даже ветер волоска не качнет. Однако обязаны были хоть несколько слов друг другу сказать.
Ёши спрашивал, но смотрел в стену. Все-таки Йири не выдержал:
— Лучше мне было умереть?
— Не говори глупостей, — впервые за эти дни врач вернулся к прежнему тону. — Это ничего бы для них не изменило. Ты все делаешь правильно. Слишком правильно.
— Мне нельзя по-другому.
— Почему?
— Потому что лишь этим я могу хоть как-то заплатить за оказанную честь.
— Тогда скажи, — необычайно кротко спросил врач. — Что ты чувствуешь по отношению ко мне? Благодарность? Или на меня можно смотреть равнодушно, поскольку не отпускать людей в смерть — мой долг?
— И то и другое.
Ёши шагнул к нему.
— А если я сейчас ударю тебя? Что сделаешь? Промолчишь? Или поступишь как-то еще в соответствии с тем, что из тебя сотворили? Тебе же больно сейчас — от такого головой о стенки колотятся. Или ты даже боль себе чувствовать запретил?
— Не знаю, — шепотом.
— От тебя требуют совершенства. А если тебе придется умереть? Тоже постараешься сделать это безупречно? Смерть некрасива, дружок. И над своим телом ты настолько не властен, уж мне поверь. Хоть это радует.
Он повернулся и вышел — резче, нежели следует.
Светлые камешки дорожек — причудливые радостные узоры. Белые конюшни — по стенам плясали тени от широких листьев.
Одна была, которую можно было обнять, спрятать лицо — и стоять так, пока не послышатся шаги конюха. А потом уйти — видеть тебя таким не должен никто.
И вот — не успел. На конюшне его встретили так, будто готовы в пыль превратиться и под ноги лечь. А она, рыжая, шерсть поблекшая — или почудилось? — смотрела тусклым глазом. Смерть некрасива. Однако не это главное. Отними у лошади возможность догонять ветер — что же останется?