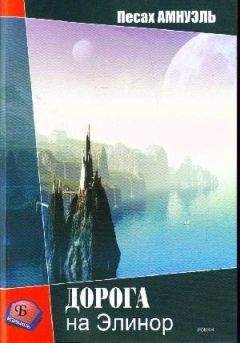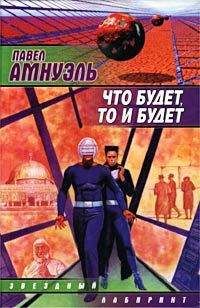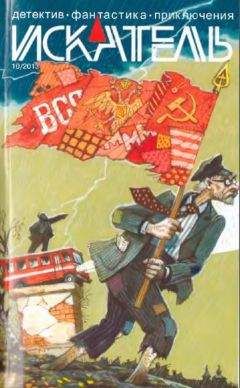Когда сердечные ритмы синхронизовались, Терехов пришел, наконец, в себя и медленно высвободился.
— Я не обидел тебя? — проговорил он.
— Все в порядке, — сказала Жанна.
Терехов почувствовал, как в воздухе будто возник невидимый поршень, несильно, но чувствительно подталкивавший его к двери: комната выдавливала его, лишнего, покусившегося, не своего.
Терехов сопротивлялся, как сопротивляются сильному ветру, он не хотел уходить, но чувствовал, что оставаться здесь ему тоже не нужно, нельзя, кощунственно, хотя что говорить об этом сейчас, когда все уже произошло, и плохое, и хорошее, и если он раньше не сопротивлялся несшему его потоку событий, то почему нужно сопротивляться теперь, когда тайна, о которой говорила Жанна, начала понемногу приоткрываться?
Начала ли?
Напор ветра усиливался, Терехову пришлось ухватиться рукой за спинку стула, но стул начал падать, Терехов вцепился в ручку кухонной двери и удивился тому, что на остальные предметы в комнате ураган не действовал — занавески на окне не шевелились, стул не упал, скатерть неподвижно свисала со стола.
Нет никакого ветра, подумал Терехов. Что за чушь, откуда ветер в закрытой комнате? Это внутреннее ощущение, сила, которая гнала его прочь, совесть, наверное, хотя он никогда не слышал, чтобы совесть мучила таким странным образом.
И Терехов ушел. Когда он проходил мимо двери Лидии Марковны, ему показалось, что кто-то смотрел в глазок. Терехов вышел на улицу и быстро зашагал к перекрестку. Теперь он мог найти дом Ресовцева с закрытыми глазами.
На углу был книжный магазин — не из больших, Терехов увидел свою книгу на стеллаже, взял в руки, подержал, глядя, как солнце на обложке опускается к горизонту — похоже, что оно опустилось ниже, чем на обложке той книги, что стояла дома у него на полке. Почему бы и нет — неправильно приклеили форму на картон, вот и все. Или…
Он открыл книгу, поискал момент, когда Ноэль и Левия отправились в столицу, чтобы найти то, что принадлежало только им двоим. В обычном мире это называлось любовью, а в мире Элинора это был сосуд, который двое должны найти и открыть, чтобы стать счастливыми.
Двести одиннадцатая страница — он точно помнил.
На двести одиннадцатой Карл, брат Левии, вызывал на поединок Трегга и прокалывал ему череп злой, острой и коварной мыслью.
Какой мыслью? Как можно мыслью проколоть человеку череп? Он не писал этого…
А остальное — писал?
Терехов перевернул несколько страниц. Текст был знаком и не знаком. Это была его книга и не его в то же время. Он посмотрел на обложку — солнце, похоже, еще ниже опустилось к отдалившемуся горизонту, — увидел свою фамилию и знакомое название, поставил книгу на место, и, выходя из магазина, подумал о том, что мыслью действительно можно убить. Острой мыслью, способной проколоть череп.
Так со мной и поступил Ресовцев, — подумал Терехов, и мысль не показалась ему странной.
Когда он вернулся домой, телефон в гостиной трезвонил, не переставая. Терехов не стал поднимать трубку. Он хотел, чтобы звонила Жанна, но не хотел с ней разговаривать. Подошел к полке, на которой стояло «Вторжение в Элинор», и открыл книгу на двести одиннадцатой странице. Все правильно — Ноэль и Левия в столице, ищут свой сосуд Счастья…
Нужно было спросить у продавца, почему поменяли текст в книге, которую обязаны продавать так, как она отпечатана в типографии.
Терехов поставил книгу на полку — мысль, пришедшая в голову, не показалась ему нелепой, — и, снимая с себя на ходу рубашку, направился в ванную.
Ночью он наконец встретился с Ресовцевым. Проспал недолго — может быть, несколько минут. Проснулся будто от удара током — много лет назад, когда Терехов служил в армии и был салагой, среди ночи тело пронзило шпагой, на самом деле его всего лишь испытывали — не в первый раз и не в последний, — подвели к пятке оголенный провод, а другой провод к торчавшей из-под одеяла правой руке. Когда все объяснилось, на Терехова накатил ужас понимания — он мог умереть, как убийца на электрическом стуле: изверги, не знавшие или не помнившие школьной физики, пропустили через него ток от распределительного щита, это была очень большая мощность, и то, что Терехов отделался тогда контузией — несколько часов мог лишь мычать, язык не поворачивался, ноги сводило судорогой, — ему просто повезло.
Сейчас он опять испытал это ощущение тока, пропущенного через все тело, и вернулся ужас, будто не прошло двадцати лет и будто он сам не видел — месяца через три после злосчастной ночи, — как старшину, любившего испытывать новобранцев током, уносили с плаца в бессознательном состоянии; он упал, карабкаясь на макет стены, сломал себе шею и умер по дороге в больницу. Все тогда были уверены (а Терехов знал точно), что сержант упал не случайно, его столкнули, а кто — обнаружить оказалось невозможно, слишком много солдат одновременно карабкалось по стене, выполняя приказ о «взятии штурмом дома, в котором засели вражеские снайперы».
Терехов видел, как все произошло, мог назвать имя парнишки, толкнувшего старшину в бок, ему казалось, что и другие видели, но все молчали, он молчал тоже и не чувствовал угрызений совести, знал, что все правильно, и все это знали, и потому даже дознание проведено не было — беглый опрос, «видел-не видел», протокол, похороны…
И новый старшина, оказавшийся не лучше прежнего.
Терехов не сразу понял, что удар током не вернул его в молодость, и находился он не в казарме, а в своей квартире…
Нет, не в квартире. То есть, и в квартире, конечно, тоже, но большей своей частью, той, что думала и принимала решения, а не той, что эти решения выполняла, он стоял на сырой земле, покрытой очень жесткой короткой травой, рыжей, будто сгоревшей. Воздух заговорил с ним тонкими струйками зеленоватого дымка, складывавшегося в мысли, проникавшие в тело сквозь кожу, а некоторые из самых вертких сумели попасть в рот и жгли язык. Терехов разжевал эти мысли, проглотил и обернулся, но никого рядом не было.
«Вот мы и встретились», — эту мысль Терехов проглотил только что, теперь это была его собственная мысль, спорить с которой было бессмысленно.
Он хотел спросить — где он, куда попал, но понял, что глупых вопросов задавать не следует, глупые вопросы подобны бумерангу, они вернутся, и отвечать придется самому, а он не знал ответа и потому спрашивать тоже не имело смысла.
«Встретились, — согласился он. — Здесь неуютно, ты не находишь?»
«Здесь нормально, — не согласился Ресовцев. — Ничто не отвлекает от разговора».