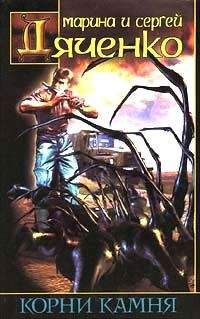– Ты пойдешь первой. А я пойду за тобой, и если ты вздумаешь повернуть назад…
Он замахнулся ремнем, и она закричала, прижимая руки к пострадавшему месту.
Дно ущелья, покрытое обломками скал, было далеко.
Сложенный вдвое ремень был рядом; она плакала, размазывая слезы по лицу.
Она легкая. Есть надежда, что и для него, идущего следом, останется шанс…
Уж за его-то спиной тропинка сделается совершенно непроходимой.
Махи ступила на карниз; он видел, как она выбирает дорогу. Правильно выбирает, точно ставит ногу, удерживаясь, цепляясь пальцами за мельчайшие выемки… Хорошо. Она выросла в горах, она легкая, молодец…
Он дождался, пока она отойдет от края, и ступил на карниз сам. Ждать не имело смысла.
Шелестел песок, льющийся из-под легких ног Махи. Если мы дойдем, думал бродяга, глядя в серо-коричневый узор скалы, если мы только дойдем, я…
Первый камень сорвался из-под его ноги как раз на половине пути – ухнул вниз, летел долго, ударяясь о другие камни и увлекая их за собой, летел, пока бродяга мучительным усилием подтягивался, искал новую опору, чувствуя, как выпрыгивает из груди сердце.
Махи стояла, прижавшись щекой к скале, ее опухшие от слез глаза казались огромными, как блюдца.
– Ничего, – он попытался улыбнуться. – Вперед.
И она пошла.
Ей оставалось пройти четверть пути. Всего четверть.
Из-под его ноги сорвался второй камень. И почти сразу – третий.
Ему казалось, что пустота, притаившаяся на дне ущелья, протянула невидимую мягкую лапу и взяла его за ногу повыше щиколотки.
Пот заливал глаза; сердце колотилось так, что, кажется, его слышит Махи, вот она подходит к краю карниза, вот сейчас…
Девочка обернулась.
– Вперед! – почти закричал он, чудом удерживаясь на полуобвалившемся, уже непроходимом карнизе. – Вперед, ну!..
Из-под ног Махи посыпался песок. Полетели мелкие камушки.
– Вперед!!
Это был один из тех камней, про которые он с самого начала знал, что они ненадежны.
Мгновение…
Махи больше не стояла на карнизе. Она висела, ухватившись одной рукой за едва заметный выступ, другой – за стебель угнездившегося в щели растения, сейчас эта сухая веревочка лопнет, не выдержав веса легкой, как пушинка, девочки…
– Махи!!
Не стоило кричать. Здесь случаются лавины.
Ему казалась, что она движется непростительно медленно. Как в замедленной съемке.
Тощая ящерка в рваном платье. Подтянула ногу… коленом нашла опору… еще… стебель держит… сыплется песок… пот заливает глаза, еще чуть-чуть, сейчас она выкарабкается, ну…
Махи встала. Потихоньку, приставными шажками, двинулась вперед; он смотрел, как она идет.
Через несколько секунд она была уже на той стороне ущелья. И сразу же села на землю, и вцепилась в нее руками.
Он хотел бы молиться, только не знал, кому.
Камни под его ногами проседали. Мысленно продолжая их движение, он видел себя, распростертого в воздухе, парящего, будто птица…
Он так мечтал научиться летать.
– Танки!..
Слово прыгало, отражаясь от стен.
На его пути была теперь яма. Выбоина; он не знал, как пройти пострадавший участок. Куда там ставить ногу. Обливался потом – и не знал. Повернуть назад?!
Он шагнул, приставил ногу, позволяя камню, на котором он только что стоял, спокойно ухнуть в пропасть. Шагнул снова, и удачно, нащупал дорогу впереди, выбрал камень, готовый выдержать его вес на протяжении десяти секунд, осталось четверть пути, но эта выбоина, вот он, настоящий конец всему, и до нее уже ничего не осталось, совсем ничего…
– Танки!..
В последнюю секунду он сообразил, что надо прыгать.
– Танки!!
Головокружение. Почти падение, судорожно сжимающиеся пальцы…
Огромный острый обломок, выступающий над краем пропасти, как нос каменного корабля, выдержал его хватку.
Махи кричала и плакала, вцепившись в сухую коричневую траву, пока над краем пропасти не показалась одна рука, потом другая, потом перекошенное усилием лицо, а потом и весь бродяга – целый, но без самострела.
Самострел сорвался вниз.
Впрочем, у бродяги все равно был только один патрон.
…Ну как же, как ее утешить?!
Догорал костер.
Бродяга уложил Махи на свою расстеленную куртку, лег рядом, обнял ее, мысленно пытаясь вобрать ее дрожь в себя. Вытянуть ее отчаяние и страх, будто губкой.
– …И там никто никого не боится. Там никого не бьют ремнем. Там нет ни кинжалов, ни самострелов. Ты пойдешь в школу, у тебя будет очень красивая школьная форма, со значками, с пряжками…
Он запнулся. Он не знал, чем еще ее заинтересовать, то, что всю жизнь казалось ему простым и обыденным – отсюда, из гор, представляется недостижимым счастьем, особенным миром для праведных… А теперь так надо рассказать ей – а он не находит слов, мелет какую-то чушь про школьные пряжки…
– Я ведь чу…жачка буду, – пробормотала Махи сквозь дрожь. – Я же там буду… вроде оттудика…
– Да что ты, – сказал он, обрадованный, что может наконец-то сообщить нечто важное. – Там нет оттудиков вообще. Там всем все равно, откуда ты родом, откуда пришел… Там… ты увидишь. Будешь читать книжки, научишься рисовать, нырять в бассейне… Кем хочешь быть?
Она не поняла.
– Что хочешь делать? – терпеливо переспросил он. – Учить, лечить, петь, строить дома… Что хочешь… Любое… дело… Подружишься с ребятами…
– А ТЫ будешь… со мной?..
– Конечно, – он даже удивился. – Конечно, а ты как думала?!
Кажется, ее дрожь понемногу стихала.
Кажется, скоро она сможет заснуть).
* * *
После дневного лечения Павла не хотела двигаться и почти не могла говорить – лежала в полусне.
Потом сквозь очертания муторного, но вполне узнаваемого бреда – шершавые прикосновения простыней, отдаленные голоса, холодная вода на губах – проступил, наконец, сырой полумрак Пещеры.
Не было сил подняться.
Сарна лежала на подушке из сырого черного мха, ввалившиеся бока подрагивали, шерсть свалялась, слиплась сосульками, и над головой нависали сосульки сталактитов, и в отдалении шелестела вода, но сарна знала, что сегодня до водопоя не добраться.
Звуки текли коридорами, отражались от стен, лились в круглые напряженные уши; стая коричневых схрулей прошла слишком близко, но сарна лежала, не шевелясь.
Черный мох пах едой. Черный мох был влажным и сам по себе мог утолить жажду; сарна с трудом отщипывала от жесткой подстилки и не ощущала вкуса.
Когда барбак, чей нос не мог упустить запаха больной сарны, приблизился настолько, что она различала уже не только скрежет когтей по камню, но и дыхание, и шелест трущейся жесткой шерсти – тогда угасающий инстинкт самосохранения взял верх, она напрягла трясущиеся ноги и подтолкнула вверх непослушное тяжелое тело.