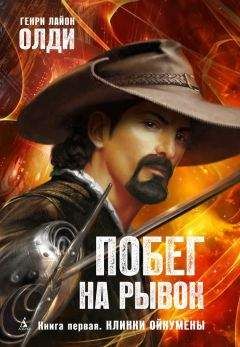– Помпилианка! – брызжа слюной, расхохотался Лардиг. – Октуберанская волчица! Ричард, вы бы справились с помпилианкой?
– Да, – без колебаний ответил Монтелье.
Лардиг кивнул. Углубляться в детали он не стал. В биографии режиссера, особенно – в юности Монтелье, хватало белых пятен. Расспрашивать без приглашения означало наткнуться на глухую стену молчания. Лардиг махнул рукой вслед странной помпилианке, ставя точку в обсуждении скользкой темы, и полез во внутренний карман пиджака. Движение открыло случайному взгляду наплечную кобуру с парализатором. Монтелье не сомневался, что при необходимости Лардиг без колебаний пустил бы оружие в ход. В биографии Клемента Лардига, одного из лучших критиков арт-транса Ойкумены, тоже хватало белых пятен.
– Вот, – Лардиг включил коммуникатор в режиме аудиоплеера. – Вы просили, я нашел. Качество устраивает?
С минуту режиссер слушал ангельский хор.
– Из костра пылающего взываю к Тебе, из сердцевины пламенной, – повторил он, когда началось органное соло в фа миноре. – Ибо надеюсь не на силу рук и крепость власти… Псалом шестнадцатый: «Единой надеждой живу».
– Зачем вам эта мура?
– Хочу использовать в качестве основной темы. Мура? Это любимый псалом Луиса Пераля. Если и сын неравнодушен к шестнадцатому псалму, я буду считать, что мне повезло.
И Монтелье повторил еще раз:
– Ибо надеюсь не на силу рук и крепость власти…
* * *
Она шла как в тумане. В красном сыром тумане, насквозь пропитанном запахом свежего мяса. Кто-то уступал ей дорогу, о чем-то спрашивал, убирался прочь. Не мой день, бормотала Эрлия-вторая. Сегодня не мой день. Не твой, соглашалась Эрлия-первая. Не мой день, нет, не мой… День мерк, превращался в мглистый омут – немой день, безъязыкий, лишенный дара связной речи.
Эрлии повезло. Орбитальный переполох, отмена рейсов, временная блокада околопланетного пространства – в комплексе «Тафари», да и по всей Китте многие женщины самого разного возраста и внешности брели наугад, вслепую, так, словно внезапно упали под шелуху – в иллюзорный мир волнений, переживаний, беспокойства за родных и близких. Останавливать каждую, вникать в проблемы, когда своих больше, чем хотелось бы – пустое занятие. В истерике не бьется? Не требует чудес от первого встречного? Ну и ладушки.
– Объект, – бормотала Эрлия. – Ботва…
Вопреки очевидному, слова теряли всякое различие. Единое звучание, единый смысл.
– Объект…
Мимо по аллее пронесся мальчишка на роликах.
– Ботва…
Мальчишка почти лег на крутом вираже. Ошибись он хоть чуточку – врезался бы в парковую скамейку. Выходя из виража, юный гонщик пронесся мимо грязно-желтой статуи безгривого льва, украшавшей обочину аллеи, и с радостным воплем ускорил бег. Скамейка, машинально отметила Эрлия. На скамейке – пожилой гематр с тростью. Я уже была здесь. Интересовалась объектом. Мар Дахан ничего не сказал мне; не скажет и сейчас. С кем он беседует? Голова, бритая наголо, стройная фигура спортсменки, знакомый профиль…
– Госпожа Штильнер? Как хорошо, что я встретила вас!
Со всех ног Эрлия бросилась к Джессике Штильнер. На ходу, управляемая Эрлией-первой, она превращалась в блондинку-журналистку, восстанавливала контроль над собой. Присутствие упрямого тренера ничего не значило. Джессика могла что-то знать про объект. Обязана была знать! Мельчайший шанс, крупица, тень шанса – волчица шла по следу.
– Вы спасете меня! Госпожа Штильнер, вам, конечно же, известно, куда пропал ваш спарринг-партнер! Госпожа Штильнер…
– Господин Штильнер, – поправил Эзра Дахан.
Он сидел в той же позе, что и раньше. Вернее, принял эту позу, едва Эрлия приблизилась к скамейке. При виде осанки старика, положения его рук, от ног, сдвинутых плотней, чем принято у мужчин, Эрлию мучила плохо осознанная тревога. Стараясь держаться так, чтобы Джессика Штильнер находилась между ней и стариком, обер-манипулярий Ульпия не сразу поняла, что говорит старик. А когда поняла…
– Давид Штильнер, – сухо, без малейших признаков дружелюбия, представился юноша. В том, что это юноша, у Эрлии больше не осталось сомнений. – Мы с Джессикой близнецы.
Он провел ладонью по лоснящемуся черепу:
– Я побрил голову. Хотел разыграть сестру…
Ты рехнулась, уведомила Эрлия-первая Эрлию-вторую. Тебя надо запереть в психушку. Ты не отличаешь мальчика от девочки, ты боишься дряхлого гематра, греющегося на солнышке… В сопляке, остригшем волосы ради розыгрыша, тебе мерещится черт знает что. Он меня боится, огрызнулась Эрлия-вторая. Щенок видит меня впервые и боится так, что вот-вот нагадит в штаны! Он в панике! Возможно, предположила Эрлия-вторая, он боится помпилианцев. Фобия, заметил бы режиссер Монтелье. Обычная распространенная фобия.
– У вас все? – с резкостью, подтверждающей гипотезу фобии, бросил Давид. – Мы с мар Даханом хотели бы остаться наедине. Если у вас дело к моей сестре…
Он осекся. Лишь теперь молодой человек сообразил, что у этой помпилианки – помпилианки! – есть дело к его сестре.
– Что вам нужно от Джессики?! Что?!
И Давид зарычал.
Это безумие, решили обе Эрлии, первая и вторая. Люди не рычат. Это безумие, решили они миг спустя, когда статуя безгривого льва шевельнулась, встала на все четыре лапы и медленно направилась к скамейке. Никогда в жизни Эрлия Ульпия не видела такой огромной кошки. Зверь опустил лобастую голову, сверкнул янтарными глазами и оскалил клыки.
– Голиаф! Назад!
Голиаф, или как там звали чудовище, и не подумал отступить. Рык сделался ниже, от него мурашки бежали по позвоночнику, а в животе таял снежный ком, грозя пролиться совсем уж постыдным ручьем.
– Голиаф!
– Уходите, – велел мар Дахан. – Быстро!
Восклицательная интонация в речи гематра совершила чудо – испугала Эрлию больше разъяренного хищника. Жалея, что у нее нет роликов, антиграв-платформы, гоночного мобиля, обер-манипулярий Ульпия двинулась прочь, ускоряя шаг. Метрах в десяти от скамейки, плюнув на приличия и гордость, она перешла на бег.
Не-мой-день, бился пульс в висках. Не-мой-день…
…Давид Штильнер расслабился не сразу.
– Вы, – он повернулся к тренеру, – собирались ее убить. Я ничего не смыслю в фехтовании, но ваша поза… Вы читались, как ноты с листа.
– Вы занимались музыкой? – спросил Эзра Дахан.
– Немного. У меня есть способности, но увы, нет таланта.
– Тогда вы должны знать, что только музыкант, причем хороший музыкант, легко читает ноты с листа. Эта женщина тоже частично прочла меня. Я ее нервировал, раздражал на подсознательном уровне. О чем это говорит?