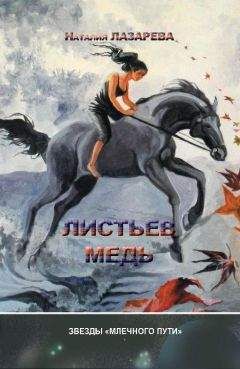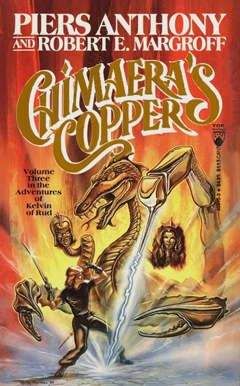Марик стоял в прихожей с тесаком в руке.
– Ой, не надо так на меня, вроде я как-то вернулась… – начала было Катя.
– Сова! Совушка, умница, умничка! – Марик, продолжая прижимать тесак одной рукой, другой очень крепко схватил Катю за руку повыше локтя и с силой притянул к себе. Кате было очень неудобно так стоять, она почему-то не могла сделать шаг к Марику и встать вплотную, словно что-то удерживало ее, но, в о же время, она тянулась к нему и прижималась грудью с опасностью свалиться вперед, как тогда вместе с дверью. А Марик продолжал ее притягивать, уже переведя кисть за спину, цепляясь пальцами за ткань футболки, неестественно приподнимая подбородок, как всегда он это делал при беге, и точно так же, как и она, не делая необходимого шага вперед, к Сове.
– Слушай, Юноша, мы сейчас грохнемся, – сдавленно сказала Катя. – Выпусти ты меня, и секиру свою брось. Там драться абсолютно не с кем. Так, одни какие-то мн… гранники болтаются. И… этот, твой четвертьвагончик… – У Кати слегка свело губы, и она никак не могла правильно выговорить слова.
– Да? – с неестественной радостью встрепенулся Марк. – Четвертьвагончик… Я знал, что тот сон неспроста.
– Все тут неспроста… – заговорив, Катя немного пришла в себя и сделала-таки эти два шага вперед, встав вплотную с Мариком, который освободил, наконец, руку, отбросив свое оружие.
– Совушка, – Строгий Юноша пригладил ее взлохмаченные волосы, аккуратно разложил вокруг лица и принялся водить ладонями по ушам, пристраивая густые каштановые пряди в привычное для него положение.
– Да ну тебя, – вывернулась Катя и сцепила волосы аптекарской резиночкой на затылке. – В ушах гул какой-то от твоих…выступлений. И на руке синяк будет. Давай-ка лучше подумаем… – Они двинулись к поддельному креслу, а Катя все рассуждала, – Мир какой-то несоответственный… Понимаешь, всякие планеты, ну… про что пишут. Там, летающие тарелки… это же – зеленые человечки, люди в скафандрах, сублимированная пища… Впрочем, она примерно такая тут и есть. Но у меня такое чувство, что никаких зеленых человечков тут нет. А эти – вагончики, пирамиды и движущиеся двери – и есть тут живые.
Марк молчал, сжимая и разжимая кулаки. Он чувствовал, как онемели руки. Такое было с ним в детстве, когда делал какую-нибудь глупость, мама долго ругала, он плакал и просил прощения, а потом злился на себя и на мать, а потом медленно начинал успокаиваться. Немели руки… Сова исчезла и Сова возвратилась. Живая панель, заменяющая дверь выпустила ее, дала попутешествовать и вернула назад. Его она ни разу не выпустила, как он ни старался. Рассказ о катином путешествии Марик слушал очень внимательно. Уже после первых слов о гранниках, глаза его заблестели, и лицо высохло и обострилось.
– Невероятно. Что же их породило? Словно ящики, полки и сундуки собрались вместе и ринулись в пространство… Ящики? Мебель?
– Корпы! – вдруг взвизгула Сова, – Корпы! Это они тебя, а потом и меня утянули!
– Не-ет, – протянул Марик, нервно кусая губы, – Это не наши корпы… Я имею в виду – не наш мир их породил. Что-то тут не так… Скорее они закинули к нам корпов.
– Ну, да, как лазутчиков!
– Чудное словечко, чудное…. Лазутчики, лазутчики, – Л…ллл….лл, – Не хочется верить, ладно…
Но это сейчас даже и не очень занимало Строгого юношу. Его занимало то состояние – грудь в грудь – когда они стояли в прихожей. Все те, которых он увидел тогда, сидя с Катей на кушетке в соседней комнатке, слились сейчас только в нее одну, потому что во Вселенной, населенной черными гранниками и четвертьвагончиками больше никого не было. Не было внушающей и гневной мамы, не было райкома, призывающего к учебе и работе, поучения правительства на общественном корпе стали всего лишь фикцией – вообще тут ничего не было кроме бушующего в нем жара, который настиг его тогда в комбинезоне во время сборки, и сидящей рядом на прямом и неудобном подлокотнике девушки Кати. И Марик, почти не вслушиваясь в рассуждения о ребрах и гранях, опустил голову и вжался лбом в сгиб ее локтя, ощутив прозрачную выпуклость тыльной стороны предплечья, чуть напряженные мускулы сверху и кажущуюся бесконечной ямку между ними, на дне которой прерывисто бились их крохотные неправильные жизни…
Двое из группы исчезли. Марик, Марик… Бешеный крик его матери, ее полубезумные, черные от зрачков глаза с ужасом и презрением вперившиеся в Акима, ее последние слова, когда Сова уже понеслась за автобусом и зазвучала милицейская сирена: «Кому мы доверили детей! Это же совершенно безнравственный тип! Оставил жену – дочь ответственного работника, увлекся отщепенкой. Да, да! В домовом комитете все известно! Ой, не могу!!! Это ж все равно никто не узнает – кто моего мальчика забрал… Простите, Чубаров, простите ради Бога, сделайте же что-нибудь!!!»
И в домовом, и вообще во всех комитетах, как всегда, все известно…
Лиготерминал, наверняка, отнимут, доступ запретят. Возможности выхода на почтовые программы его лишили уже давно, сйчас, наверняка, сотрут все личные тетради (раньше их назвали бы файлами). Аким лихорадочно шарил по карманам, доставал талоны доступа. Нашел все. Начал постепенно вставлять в щель терминала и перекачивать тетрадки на давно припрятанные древние дискеты – хватит ли места?
Вообще, сам процесс этого переписывания… Сколько тут было всего: и рабочие отчеты, и письма к друзьям и ответы на эти письма, и, главное – нечто вроде личного дневника – записки, или клочки, как он для себя их называл. Говорили, что «где-то там» эти тетрадки просматривают. Но за номерами талонов преподавательского состава не очень-то следили, это же не сотрудники предприятий Среднего и высшего Лигомашиностраения, а так что-то. Вряд ли у кого руки доходили все это читать. Вот Чубаров и распустился, писал, что ни поподя, и даже не шифровал. А нынче он почувствовал, что кто-то чужой полезет в его записки, и ему стало отвратительно до дрожи в пальцах.
Он кликал на команду «открыть» и на экранчике возникали планы занятий, вопросники к зачетам, кое-какие попытки продолжать давно заброшенную диссертацию «Проблемы создания гибкого связьлица в условиях…» Всякая мура. И вот это: «Очень трудно работать. Не принято говорить, но подобное испытывают многие из моих друзей. Сначала все кипит, схватывается фрагментами, возникают тысячи идей, а потом – что-то словно тормозит, приостанавливает и налипает на мозг, как будто кладут войлочную нашлепку на каждое полушарие. И я все повторяю: у меня закрылся третий глаз. Объяснить не могу, да и никто не может. Так, шутка. Просто ленив стал. Неприятности в лиш… в личной жизни».