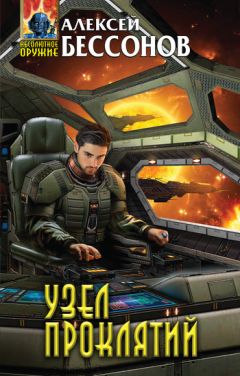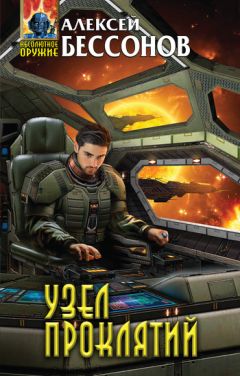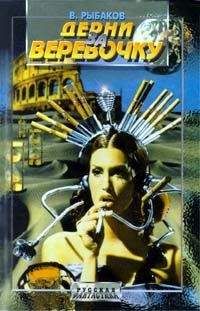– Что ж рассказывать? Сократ уже все расписал в красках.
– Неужели у вас действительно все так плохо?
– Ну, почему же, есть масса замечательных вещей, у нас красивая природа, но лучше увидеть своими глазами. Ты никогда не бывала на Земле?
– Нет, никогда. Даже не уверена, что точно знаю, где она находится.
* * *
– Дракула, – сказал Палач, когда они вышли из Залы Философии Крови, – что ты думаешь по поводу заявления Патриция?
– Не знаю, не знаю, – задумчиво покачал головой старый вампир, – подумаем, посмотрим…
* * *
– Ну, вот, теперь Ластения ушла и больше не вернулась! – Терра уже не могла сидеть спокойно. – Пойду-ка, поищу…
– Нет! – воскликнул толстяк. – Сиди тут!
– Ты что, боишься один оставаться?
– Подождем еще немного и пойдем вместе. Действительно странно, куда все деваются?
* * *
Патриций вышел на восточную Дворцовую лестницу, постоял на ступенях и спустился в Парк. Обжигающе ледяной воздух ворвался в легкие, Владыка задержал дыхание и прикурил сигару. В полнейшем безветрии с низкого неба падали редкие голубые хлопья снега. Повелитель разглядывал Парк, погребенный под снегами, а сигарный дым безмятежно струился вверх, распадаясь на тонкие волокна… Владыка шел к заснеженным аллеям. Снег усиливался. Крупные хлопья летели, как клочки неба, а Патриций шел, не обращая на это внимания, и его белые волосы постепенно становились голубыми…
* * *
– Ну, наконец-то! – воскликнул Сократ, увидев на пороге Ластению с Дэном. – А Алмончик где?
– Он испачкался и пошел приводить в порядок одежду.
– В чем испачкался?
– В крови.
– Ага! Так я и знал! – на лице толстяка возник живейший интерес. – Опять кого-то убили? И кого на этот раз?
– Верса с Урана.
– А-а-а-а… – разочарованно протянул Сократ. – Мелочь. А чего ради вы на версов охотились? И где вы его вообще раздобыли?
– Дело в том, – откашлялся Дэн, – что этот верс находился в спальне Ластении, стоял у кровати и смотрел на Анаис, что он собирался делать – неизвестно, но, наверное, не целовать ее, как принц спящую красавицу, с ножом в руках. Мы с Алмоном не стали спрашивать, чего он тут забыл, напали на него и победили.
Лица Сократа и Терр-Розе вытянулись.
– Как интересно… – промычал толстяк. – Нет, ребята, а вы заметили, с какой значимостью он произнес: «Мы с Алмоном!» Нет, слыхали? Они с Алмоном!
– Все верно, – в дверях стоял полуволк, – с версом справиться очень нелегко, Дэн здорово помог.
– И чем же, если не секрет? – недоверчиво хмыкнул толстяк. – Он подставил подножку плохому версу?
– Нет, он надел ему на голову вазу, тот на миг замер от неожиданности…
– Вазу разбили?
– Сократ, ну что за вопросы! – возмутилась Терра. – Тебе что дороже – какая-то глупая ваза или здоровье наших друзей?
– Мне все дорого – и моральные, и материальные ценности. Что хоть за ваза-то была?
– Да какая разница, – беспечно отмахнулась Ластения. – У нас тут этого всего…
– Что-то вы темните! А ну, признавайтесь, что за вазу кокнули? – забеспокоился Сократ, почуяв неладное.
– «Ночной Горшок», – вздохнула девушка.
– А-а-а-а!! – завопил толстяк так, будто разбили не вазу, а его сердце. – Так я и знал! Именно то, что я любил больше всего! Я даже придумал, куда его дома поставлю! Какие же вы все-таки варвары!
– Сократ, – расстроился Дэн, видя горе толстяка, – ну, я же не знал. Схватил, что первое под руку попалось…
– У-у-у-у! – продолжал сокрушаться он.
– Может, еще можно склеить? – спросила Терра.
– Нет, она это… в общем, вдребезги, – вздохнул Дэн. – Ваза представляла культурную ценность для Сатурна?
– Никакой ценности она не представляла, – отмахнулась Ластения, – из-за сущей ерунды – трагедия.
– Она представляла культурную ценность для меня! Для меня!
– Сократ, я закажу мастерам точно такую же!
– Знаете что, ребята, – произнес Алмон, когда все страсти улеглись, – пойду-ка я посижу с Анаис, мало ли что еще может приключиться.
– Думаешь, верс – подарок от Патриция? – спросил Сократ.
– Понятия не имею. Пойду на всякий случай.
– Алмон, – окликнул его Сократ уже у самых дверей, – ты только, старина, уж не подумай, что мне этот Горшок дороже тебя.
– Я и не думаю, – усмехнулся полуволк. – На моей могиле ты бы рыдал погромче?
– У, да ты что! Голосил бы во все горло!
* * *
– Дракула, куда Патриций пошел?
– А я знаю? – старый вампир смотрел в заснеженный Парк, полускрытый летящими крупными хлопьями. – Бродит и бродит целый день, как душа неприкаянная.
– Может, у него эта… как ее, ну, черная… как же ее… меланхолия, вот.
– Не имею понятия, – вздохнул Дракула, – что-то я в последнее время вообще ничего не понимаю. Он никуда не выходит, ни с кем не общается, странный стал какой-то.
– Так давай сами чего-нибудь устроим.
– Что мы сможем устроить без Патриция? Ничего серьезного…
* * *
– Что-то я волнуюсь, – изрек Сократ. – Хоть бы Анаис сообщила, как дела идут.
– Наверное, нет такой возможности, – вздохнула Терр-Розе. – Давайте выпьем вина.
– Наконец-то, Терра, я от тебя слова разумные слышу.
– Конечно, тебе лишь бы пьянствовать круглосуточно!
Ластения попросила слугу принести вина.
– А я думаю, – сказал Денис, – Алмон все равно не допустит, чтобы с кем-нибудь из вас случилось что-то плохое.
– Алмон один, а нас вон сколько, – пробормотал Сократ, – и всякий готов самоотверженно устроить любые неприятности.
* * *
Пододвинув кресло к кровати, полуволк присел и посмотрел на неподвижное бледное лицо Анаис, и ему показалось, что оно излучает едва уловимое голубоватое сияние. Алмон снял серебряный зажим, скреплявший на затылке жесткие волосы, тряхнул головой и помассировал гудящие виски. После взглянул на изящные напольные часы. Оставалось три часа, шесть из девяти прошли.
* * *
Поставив кресло в середине Малахитовой Залы, Патриций присел и закрыл глаза. Его окружал зеленоватый мрак, и где-то в нём блуждал Нэскей.
– Мой сын, – беззвучно шепнули губы Георга, – как жаль, что ты не видишь эту зиму… она понравилась бы тебе. Я когда-то любил такие тихие, безветренные, беззлобные зимы. В твоем возрасте нравятся зимы. Потом, ближе к завершению веков, их начинаешь ненавидеть, потому что они рассказывают тебе о старости, о смерти, о вечном сне как раз тогда, когда тебе больше всего хочется дожить до весны. До боли в сжатых зубах, до хруста в сведенных судорогой суставах тебе хочется посмотреть на прорастающую траву, на дымчатую зелень новорожденных листьев… хочется слушать перезвон талой воды и вдыхать, вдыхать, вдыхать этот жизненный запах до тех пор, пока глаза не защекочут слезы. Но знаешь, сынок, рано или поздно ты не успеваешь дожить до Своей Весны. Ты остаешься среди голубого зимнего снега, а потом и сам прорастаешь травой, лопаешься почкой на ветке дерева или поешь свою мелодию, перекатываясь льдинками в звенящей талой воде… И что страшно, сынок, какой бы вечной не была жизнь, все равно наступает смерть, и вся эта вечность становится маленьким пустым мигом, отступая перед одной простой мыслью, что больше никогда не увидишь свою весну… Но есть кое-что пострашнее обычной смерти, мой мальчик. Это – жизнь вместе с нею. Многое, очень многое хочу тебе рассказать. Теперь у нас есть время, я расскажу…