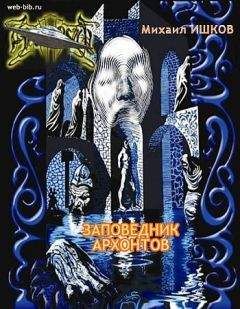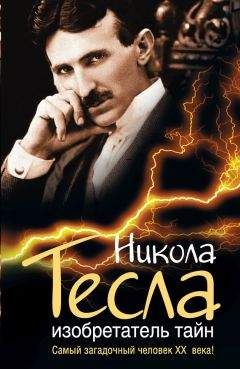— Я-то? — переспросил он. — Главным инженером. Славный был организатор производства. С опытом, хваткой… Инженерное чутье потрясающее, — он вдруг заговорил о себе в третьем лице, потом махнул рукой и замолчал.
Я набрался смелости и спросил.
— А парнишка откуда.
— С кабельного.
— Он тоже в демонстрации участвовал?
— О чем ты говоришь, товарищ! — замахал на меня ручищами главный инженер. — Какая демонстрация! Это был вопль народной души, мы испытывали радость от предстоящего разговора с властями, ведь они плоть от плоти, кровь от крови народные.
Он помолчал, потом с прежней страстью в голосе добавил.
— Не вышло… Парнишку, спрашиваешь, за что? — деловито переспросил он. — За то, что изготовил модель ковчега? Так, как он сам его вообразил?..
— За это в каталажку? — не поверил я.
— Не в каталажку, не в каталажку… — досадливо поморщился сидевший рядом, пострадавший молоденький изобретатель, — а на исправление мыслей. Некоторые конструктивные решения в моей модели не совпадают с тем великим замыслом, который задумали великие.
— Что же в этом странного? Не мог же ты объять умом всю глубину их гениального замысла? За это не исправлять, учить надо.
— Ах, вы не понимаете! — воскликнул парень. — Не за то, что я не во все тонкости проник, а за то, что зря рабочее время потратил, которое можно было использовать для изготовления одной малюсенькой, но крайне важной детали для настоящего ковчега. Теперь вот сижу, маюсь — вдруг мне никакого стоящего дела не отыщут, ведь я как никак индустриальный техникум закончил. Сварщик из меня высший класс. В любых средах варю, любой сплав.
— С ногой что?
— Когда пришли стражники, я испугался, влез на крышу и спрыгнул во двор. Вот с тех пор нога и болит. Ноет и ноет, сука, ничего не помогает.
— Дай-ка взгляну, — предложил я.
Парнишка испугался, однако главный инженер ободрил его.
— Послушай товарища. Он плохого не посоветует. Он дедушку видал!
Я осмотрел распухшую ступню — обыкновенный вывих. Беда в том, что парень в припадке энтузиазма, стараясь скрыть свою немощь и неспособность принести пользу ковчегу, сильно перетрудил ногу. Я объяснил инженеру, что необходимо сделать две шины и пусть мальчишка поменьше бегает, побережет сустав. Дело молодое, заживет быстро. Тут же нашлась веревка, дело было за двумя дощечками. Добыли их у густо бородатого — вся шея заросла перьями — стража, который стоял за дверями камеры на часах. Тот было заартачился. Когда же я напомнил, что в случае его нерасторопности парнишка может потерять ногу и какое-то время не будет участвовать в строительстве летучего корабля, он принес две планки. Мне пришлось пояснить, какой формы должны быть шины — тот руками развел. Заявил, что заступая на пост, они обязаны сдавать личное оружие — нож сейчас хранится у начальника охраны. Вот разве что копьем…
Я удивленно глянул на него, пожал плечами.
Тот покраснел, позвал начальника охраны. Тот сначала тоже заупрямился, сразу в кулаки — бунтовать? Дерзить? Перечить? Ему объяснили, в чем дело, и он разрешил стражу вытесать деревянные шины. Потом засомневался в моих указаниях — откуда ты, старый пень, не обучавшийся в университетах, можешь знать, что и куда накладывать. Ему шепнули, что я дедушку видел. Начальник стражи испугался и послал своего человека в канцелярию гарцука. Неожиданно явился сам гарцук — моложавый, очень вежливый и высокий губошлеп. Узнав, в чем дело, он некоторое время размышлял, шевелил губами, наконец объявил.
— Делайте, как велит этот старый пень! Если боль не исчезнет, отправьте на водоросли, — с тем и удалился.
Все решилось в течение какого-то получаса, просто, по-семейному. Я вправил молодому человеку сустав, дал ему обезболивающее — маленькую лепешку, спрессованную из местных растений, в которую еще на борту челнока-койса было введен сильный болеутоляющий препарат. Страж тут же в камере вырезал две планки, их примотали к ноге, парнишку отнесли в угол, освободили место на нарах, положили на матрас, рядом с каким-то поселянином, который все то время, что я провел в камере, находился в каком-то заоблачно улыбчивом состоянии. Щека, обращенная ко мне, была сожжена и неприятно-мясисто краснела. На голове посреди буйной, нестриженой заросли перьев-волос, с правой стороны проглядывала обширная плешь. Кстати, какую расу, обитающую на Хорде, не возьми, поселяне были волосистым народом. И более темные северяне, и отличавшиеся мелкотой зрачков и неестественно прозрачной кожей жители экваториальных областей — все были густовато покрыты пухом.
Здесь, между парнишкой и придурком с обожженной щекой, меня и пристроили — люди как-то сразу стали заботливы по отношению ко мне, посматривали с интересом: сошлют меня на водоросли или нет? Я обратился к главному инженеру.
— Послушай, товарищ, о каком мил человеке ты все время упоминал?
Тот кивнул в сторону моего плешивого соседа.
— Вот об этом. Суллой его зовут. Это он подбил нас на незаконную форму общественного протеста. Хороший товарищ, только немного того… — он почесал висок когтистым пальцем, затем добавил. — Врет, однако, складно, и все про какого-то учителя, ушедшего к судьбе, толкует…
В этот момент несчастный повернулся в нашу сторону.
Я замер — на меня смотрел Иуда.
Он не узнал меня. Доброжелательно улыбнулся, отвернул голову и вновь мечтательно уставился в потолок. Я перевел дух, подосадовал на себя — почему Иуда да Иуда! Какой смысл именовать губошлепов именами-отголосками далекой родины?
В самом деле, как местные окликали Иуду, как он сам именовал себя?
Язык хордян в основном представлял из себя сочетание протяжных, удваиваемых гласных и согласных. Они практически выпевали речь. Смычных звуков, напоминающих наши «б», «п», у них в языке не было, словно хордянам трудно было шевелить губищами. Если не пугаться аналогий, можно сравнить их звуковой ряд с языковыми системами угро-финнов, осевших на берегах Балтийского моря. Звуки они часто удваивали — что-то вроде «Таллинн», «олломей» «каарса ныв», «Сулла». Сколько я его помнил, Сулла-Иуда постоянно был взволнован, жаждал истин, вечно путал свое добро с чужим, при этом его всегда тут же хватали за руку, нередко крепко били. Петр и Андрей называли такие экзекуции «учить уму-разуму во славу великого ковчега». Иуде подобные уроки были, что с гуся вода. Вот чего он страшно пугался, так это утерять хотя бы самое ничтожное слово из моих драгоценных речей. Он без конца теребил соседа — записывай, Левий Матвей, записывай, Левий Матвей!.. Где ты теперь, мой верный секретарь? Где всегда недоверчивый, страстно желающий поймать меня на противоречиях Якуб? Взыскующий истины Андрей? Где вы, друзья и ученики? Я поймал себя на неуместной, человечьей, жалости. Это как раз в тот момент, когда мне необходимо быть настороже!