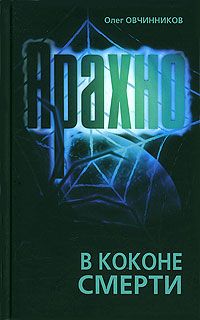Он оставил в покое бюст спящей женщины и не отдернул, а медленно, по сантиметру в минуту стал тянуть на себя одеяло, пока из-под его верхнего края не выглянула растрепанная прядка волос – без намека на желанный золотой цвет, сплошная пергидрольная белизна. Дополнительных подтверждений не требовалось.
«Куку, – подумал Толик. – То есть, Кукушкина. Теплая… Хорошо пахнет».
Действительно, несмотря на маргинальную, а то и откровенно панковскую направленность своих стихов (Толик без труда вспомнил еще пару цитат: «Ты меня разденешь и наденешь», а также «Как известно, все девочки какают стоя»), сама Клара панком не была. Ванной не брезговала, духами не злоупотребляла, запах ее тела был слабо уловим и приятен.
– Клара, Клар… Слышишь? – он легонько потормошил ее за локоть, но не получил ответа.
«Спит, – подумал он. – Как крепко спит… – и, боднув затылком собственную подушку, закончил мысль упреком непонятно кому: – Это же надо было так нажраться!»
Снова приподнялся на локте, пригладил рукой разметавшиеся волосы, снежные, мягкие, приятные на ощупь пальцев.
«В конце концов, это ведь она первая стянула с меня трусы», – придумал простодушное оправдание Толик, внеплановая жертва апрельской гормональной бури.
Он с головой нырнул под одеяло и там закрыл глаза, то ли в надежде скрыть от самого себя последующие действия, то ли притворяясь, что все это происходит во сне. Затем дотянулся до спящей Клары, обеими руками развернул податливое тело спиной к себе – и… еще раз дотянулся.
Спустя бесконечно приятные пять минут, она спросила сонно:
– Э-эй! Кто там?
– Та-ам? – уточнил Толик, по самые чакры погружаясь в средоточие плотских утех, в то время как сознание его, пробив шелк натяжных потолков, железобетонность плит, чей-то паркет, линолеум, снова паркет, водоотталкивающее покрытие технического этажа и наконец восьмиполосную рубероидную магистраль крыши, воспарило к небесам. – Я-а…
– Антон? Или Вадим?
Толик промолчал, не устроенный обоими вариантами.
– Ромка, ты, что ли?
Чуть погодя:
– Серый?
Через паузу снова:
– Антошка! Признавайся, мерзавец!
Мелькнуло даже недоуменное:
– Бори-ис?
Эта «угадайка» стала утомлять Толика. Она отвлекала, вызывала к жизни бессмысленные вопросы воде «это какой-такой Борис?», словом, грозила преждевременно низвергнуть его воспарившее сознание с небес на землю.
– Ты бы еще Сигизмунда приплела, – посоветовал он.
– А, это ты, киса-мальчик, – сразу успокоилась Клара, и Толик так и не понял, притворялась она до этого или всерьез забыла, с кем накануне вернулась домой.
– Мур, – согласился он.
Больше она не произнесла ни слова до тех пор, пока не настала пора спросить:
– Все?
– А что, мало? – удивился Толик.
– Да нет, достаточно. Спасибо.
Она перекатилась через распластанное и расслабленное тело Анатолия, поднялась и посмотрела сверху вниз, нависнув над его лицом направленными остриями грудей.
– Киса-мальчик, – повторила она, развернулась и направилась в ванную.
Ее спина заметно краснела в том месте, где соприкасались их тела. Вдобавок, отметил Толик, ягодицы были малость тяжеловаты.
Клара, мысленно произнес он и пожал плечами. Имя не звучало. К нему и прозвище ласковое не подберешь. Кларушка? Кларонька? Тьфу!
Хорошо, что это была единовременная акция.
Вернулась Клара в одном полотенце, чалмой обернутом вокруг мокрых волос. Усмехнулась, взглянув на Толика, снова по шею укрывшегося одеялом. Откинула ближний край, неожиданно наклонилась и звонко чмокнула его в район бедра. Затем продекламировала «И только Толькин пах потом пах потом». По-видимому, экспромтом.
– Ты мне дашь полотенчико? – спросил Толик.
В ванной на табуреточке обнаружилась вся его одежда, уложенная аккуратной стопкой. Почему-то включая ботинки и кожаную куртку. Запустив руку во внутренний карман, Толик нащупал и под негромкий ропоток запоздалого раскаяния вытащил нераспечатанную пачку презервативов. Еще не «пожелтевшую от времени», как у Аксенова, но тоже изрядно обтрепавшуюся на сгибах. Толик распечатал ее, заглянул внутрь, сосчитал до трех и так, с пачкой в руках, вышел из комнаты. Больше он не взял из ванной ничего.
Быстрым шагом приблизился к кровати, присел на край, но как-то неловко: полубоком, полу, мягко говоря, спиной к раскинувшейся навзничь, нога на ногу, Кларе.
– А ты странный, – прокомментировала она его появление. – Можно взглянуть?
Она взяла тонкую пачку двумя пальцами, простерла руку над головой и, не глядя, выронила на пол за кроватной спинкой. Затем привлекла Толика к себе – не за шею, не за руку, а за то, что Борис Оболенский при описании постельных сцен корректно именует «естеством» либо «самостью», многотиражник Степан, пишущий быстро и, как следствие, подчас небрежно, под настроение провозглашает то «мужским достоинством», то «мужской гордостью», а вяжущий крючком нобелевский лауреат зовет естественно и кратко, без изыском и экивоков.
И прощекотала в ухо:
– Обожаю странных!
Толик не стал сопротивляться. Он был все-таки не настолько странен.
Он ушел от Клары где-то после четвертого ее «спасибо» и сильно после обеда, которым они по обоюдному согласию пренебрегли. Все равно есть после вчерашнего не хотелось. Пить – хотелось, но не было чего, ведь никто не догадался, уходя с банкета, прихватить бутылочку чего-нибудь опохмеляющего. Впрочем, момент окончания вчерашнего застолья одинаково не помнили оба. Какая неведомая сила подтолкнула их друг к другу и в конечном итоге свела вместе на мягком просторе Клариной постели? Черт его знает! Вероятно, судьба.
Анатолий вышел на улицу и прищурился-не столько от солнечного света, сколько от вида фланирующих по тротуарам девиц с которых ранняя весна стянула долгополые одежды и всякого рода излишества с парой штанин – на резинке, молнии или пуговицах, застегнутых на непривычную сторону. В его прищуре ощущалось довольство сытого кота, уже не мартовского, а как раз апрельского. С крыш снова неслась странная капель, под ногами, соответственно, растекалась макрель, а в голове бессмысленно кружились обрывки литературных метафор про раздавленную между пальцами горошину соска и нежные, как у вора-карманника, руки. Иногда в их полет встревала лениво-тревожная мысль: «Записать бы. Вдруг пригодится когда…»
Как всегда после внепланового секса все встречные девушки казались Толику необыкновенно блестящими, улыбчивыми и доступными. И, что интересно, скорее всего так оно и было.
О том, чтобы написать сегодня что-нибудь полезное, Толик и не думал. Мысли о новом романе с элементами трагифарса, внезапно завязавшемся между ним и маргинальной поэтессой с птичьей фамилией и именем похитительницы кларнетов, отличались сумбурностью и неприличной для писателя повторяемостью производных глагола «быть». «Мало ли, что было, – думал он. – С кем не бывает? Ну и будет об этом!»