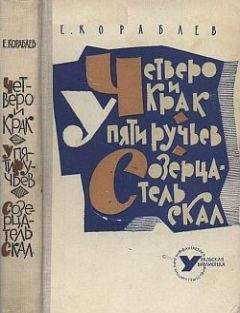– В башне есть топор? – замирающим голосом спросил летчик.
Сорвавшись с места, он подбежал к двери каморы, вонзил б доски нож и азартно принялся за работу: резал, ковырял, сверлил. Летели щепки, трухлявая, прогнившая от старости дверь подавалась легко.
Виктор спешил, отбрасывая со лба волосы, и отчаянно ругался шепотом.
Сережа стоял рядом и вздрагивал от волнения.
Наконец в двери образовалась дыра, в которую с трудом пролезала рука Сережи. Он нащупал засов, попытался его отодвинуть, но не сумел. Спеша и обливаясь лотом, Виктор стал расширять отверстие. Прошел еще час, а может, и больше, когда он наконец, обдирая об острые края тесного отверстия руку, отодвинул засов. Дверь, скрипнув, открылась.
– Где топор? – спросил Виктор. В башне было темно.
– Прямо иди, к стене. Там ищи, он в бревно воткнут.
Сережа остался на пороге. Идти в застенок, да еще в темноте, у него не хватило духа. Виктор вскоре вернулся в камору, взвешивая в руке тяжелый палаческий топор с широким лезвием. Он подсунул топор под конец прибитого горбыля и с силой нажал. Заскрежетали, выдираясь, грубо выкованные огромные костыли; Сережа прислушивался, готовый предупредить о приближении стрелецкого караула. Косаговский ухватился за отодравшийся конец горбыля, вцепился в него и Сережа.
– Ра-азом, взяли! – скомандовал Виктор.
С треском, похожим на выстрел, горбыль оторвался от окна.
– Чертова музыка! – прошептал летчик.
Братья прислушались. Наверху было тихо. Ухватились за второй горбыль, рванули. Он отодрался с таким же треском. В дыре чернела ночь.
– Я первый, – сказал Виктор.
Он взял топор, высунул голову в дыру, огляделся и одним прыжком вылетел из каморы на желоб, тут же ухватившись за края, чтобы не соскользнуть.
– Давай быстро! – истово шепнул он из темноты.
Сережа выкинулся из окна. Они скатились по желобу на землю и побежали. И тогда со стены заорали:
– Стой!.. Стой, говорю!..
А они бежали. Надо было пересечь широкую улицу и спрятаться за домами. Но со стены грохнул выстрел. Картечь просвистела над головой. А улица, проклятая, не кончалась. На стене суматошно кричали стрельцы. Снова выстрел. Третий. Следующий будет без промаха, следующий срежет их и уложит на землю.
Вдруг на стене раздался высокий девичий голос:
– Стрельцы, не стреляйте, богом молю!.. Приказ мой вам, не стреляйте!..
Стало тихо. Выстрелов не было. Пленники достигли первой избы. Обежав ее, они остановились, привалившись измученно к стене.
– Еще чуть – и гроб был бы! – тяжело дыша, сказал Виктор. – А ты слышал Анфису?
Ответить Сережа не успел. На него налетело, едва не сбив с ног, что-то косматое, визжащее и горячо лизнуло в лицо. Это был обезумевший от счастья Женька. Он: скакал, вертелся, катался по земле, тявкал и хохотал, по-собачьи. А потом, рыча свирепо и ласково, схватил Виктора за носок ботинка и не отпускал.
– Ах ты, зверюга главная! – умилился летчик.
А. Пушкин, «Полтава»
Белая голова Лысухи порозовела. Угасли ночные костры осадного табора. Люди переговаривались сиплыми после сна голосами, почесывались, зевали во весь рот. И вдруг ударил в Детинце соборный колокол Лебедь. Колокол гудел не благостно, не молитвенно, а грозно, тревожно.
– Сполошно звонят!.. В набат Детинец ударил!.. – встревоженно заговорили в осадном таборе.
Сотники полезли на телеги, пытаясь разглядеть, что делается в Детинце. Ничего не увидели, но, чего-то опасаясь, начали скликать и строить свои сотни. И вовремя они спохватились: по табору поскакали атаманские посылки Истома Мирской и Мишанька Безмен, кричали тревогу, чтобы брали люди оружие, богу молились, чистые рубахи надевали и к ратным трудам готовились.
Лебедь ударил в последний раз надрывно, отчаянно, словно вскрикнул в страхе, и наступила тишина, долгая и томительная. И в душной этой тишине медленно раскрылись окованные железом крепостные ворота, злобно зарычав ржавыми петлями. Взлетели испуганно над крышами голубиные стаи, бешено забрехали во дворах собаки.
Из ворот медленным, торжественным шагом выехали конные стрельцы: в первой шеренге – с копьями, во второй – с саблями. Впереди, отдельно, ехали посадник и стрелецкий голова. Конница спустилась с детинского холма и остановилась на лугу, где вчера ребята играли в футбол. Сытые, застоявшиеся лошади фыркали, играли крупами, нетерпеливо перебирали ногами, звенели уздечками. Звякало оружие. От конных рядов несло на табор крепкими запахами стойла и лошадиного пота.
– Опередили нас, – сказал недовольно капитан стоявшим рядом есаулам. – Раньше нас выступили,
– Бой лютый будет, хлебна муха! – откликнулся Будимир. – В челе войска сам посадник встал.
Ждан Густомысл сутуло сидел на тяжелом вороном коне, в черном бархатном плаще, с чупруном-плюмажем из черных перьев на шлеме. Рядом с ним знаменщик поднял черное знамя с вышитыми на нем ликами Христа и богородицы. Грудастый вороной конь посадника переступал косматыми ногами, встряхивал головой, чуть не до земли свешивая гриву.
Рядом с ним на гнедом коне гарцевал белолицый, румяный стрелецкий голова. Он удало сдвинул набекрень атласную шапку и то и дело кокетливо оправлял шелковый кушак поверх бархатного зеленого кафтана. Торжественный, нарядный, он словно не в бой, а на свадьбу собрался.
– Ишь щеголь! – засмеялся недобрым смехом Будимир.
За Густомыслом и головой выстроились стрельцы.
– Ой, сколько их! Целая орда!
– Волчья стая! Загрызут они нас, спасены души! – опасливо переговаривались посадские.
И робкие эти голоса перебил отважный голос:
– Ничо! Запустим зеленым кафтанам ежа за пазуху!
Табор приготовился к бою. На телегах залегли пищальники и охотники-лучники. За телегами, чуть пошевеливая остриями поднятых копий, встали сотни копейщиков – основная штурмовая сила. Бок о бок с копейщиками стояли сотни, вооруженные саблями, боевыми молотами-чеканами, кистенями.
В нескольких шагах от передних рядов осадного табора одиноко стоял мичман Птуха, в кителе с минер-ским значком, в нахимовской, с тупым козырьком мичманке, лихо надвинутой на бровь. Был в нем и сейчас тот флотский шик, по которому узнается настоящий моряк. Он застыл в стойке «смирно», будто на палубе боевого корабля перед поднятием флага. Цыганские глаза его сверкали. У ног его в окорёнке лежала бухточка тлеющего фитиля, а к лугу уходили дощатые желобочки, засыпанные порохом. Они заменяли запальный шнур.