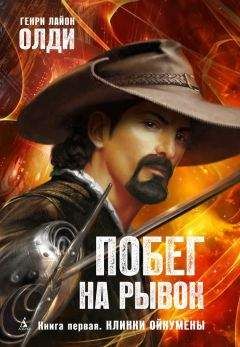– Любого! Любого коллантария! Любого!
Все повернулись к Пробусу. Общее внимание нисколько не смутило координатора колланта. Пробусу было плевать. Пробус ликовал.
– Я тебе не ботва! – маленький помпилианец хлопал себя по ляжкам, подпрыгивал, кружился по зале волчком. Взмахивал кулаком над головой: грозил небу или госпоже Эрлии, лежащей в спальне второго этажа. – Ай-люли-люли-любого… Не ботва! Нет! Хрен тебе, сука! Хрен, а не Спурия Децима Пробуса!
Мар Фриш бросил ему носовой платок, сложенный вчетверо. Плохо понимая, что делает, Пробус вытер слезы, текущие по щекам, взмахнул платком, как полковым знаменем, и сунул его в карман.
– Я – коллантарий! Не возьмешь, подавишься…
Заворожен этим диковатым зрелищем, Антон Пшедерецкий не сразу расслышал трель уникома. Лишь когда сигнал сделался громче, хозяин дома опомнился.
– Звонит профессор Штильнер, – он продемонстрировал всем индикатор вызова. – Надеюсь, светило готово нас принять.
V– Не сейчас. Скажите, что свяжетесь с ним позже.
– Ты рехнулся, Гиль?!
Жестом призвав гостей к молчанию, Пшедерецкий кивнул мар Фришу: «Я вас услышал,» – и коснулся сенсора:
– Адольф Фридрихович? Добрый день. Извините, ради бога, у меня очень важный разговор по второму каналу. Вы можете остаться на связи? Буквально минута, и я в вашем распоряжении!
Он отключил микрофон и повернулся к гематру:
– У вас минута.
– Сеньор Пераль – объект охоты. Усадьба под наблюдением. Вероятность – семьдесят семь процентов. После срыва клеймения охотники рассвирепеют и утроят усилия. Нам нельзя светить контакты с профессором. Отложите встречу любой ценой. Двадцать секунд.
– Но он нам нужен!
– Сперва надо избавиться от слежки. Я над этим думаю. Двадцать семь секунд.
– Проклятье, Гиль! Вечно ты все портишь!
– Тридцать четыре секунды.
Рассвирепеют, отметил маэстро. Яркое слово в лексиконе гематра резало слух. Тем не менее, гематрийская логика никуда не делась. Вот ты, солдатик, спросил Диего себя. О чем ты подумал первым делом? О том, на кого вы оставите едва живую Эрлию, когда отправитесь к профессору! Слежка, а значит, перспектива неприятностей у Штильнера даже не пришла тебе в голову. Нет, гематр – это хорошо. Без Фриша мы бы наломали дров…
– Адольф Фридрихович? – Пшедерецкий активировал микрофон. – Тысячу раз спасибо! Умоляю простить меня, тут такой форс-мажор… я сейчас совершенно… Да, это я терроризировал вас своими звонками. Да, это я сел вам на шею. Да, и ноги свесил. Вы не против, если я свяжусь с вами позже? Что? Наглец, пожалуй, это слишком… Нет, этот вариант еще хуже. Остановимся на наглеце. Разумеется, это наши проблемы… У вас замечательная дочь! Сразу, как только… Еще раз приношу вам…
Судя по лицу Пшедерецкого, словесная битва далась ему большой кровью. Пожалуй, чемпион скорее согласился бы сутки напролет драться со сборной Октуберана, чем по новой сцепился бы языками с обидчивым профессором.
– Послал? – проявил сочувствие рыжий.
Пшедерецкий нервно дернул щекой:
– В общих чертах. Сказал: ради дочери. Сказал: она вечно рекомендует каких-то сволочей. Если мы не поторопимся, он лишит дочь наследства, а нас – возможности лицезреть его научное величество.
– Дайте мне ваш коммуникатор.
Пожав плечами, хозяин дома протянул серебристую коробочку Фришу. У Диего возникло чувство deja vu: Эскалона, двор, два трупа. Третий скрывают оливы сада. Маэстро протягивает раненому гематру такую же серебристую коробочку. Он спешит к Карни, но раненый вот-вот истечет кровью…
Гиль Фриш выложил на стол свой уником рядом с коммуникатором Пшедерецкого, активировал голосферы устройств, слив их в одну – Диего впервые такое видел – и погрузился в загадочные манипуляции.
– Стираю логи на сервере, – пояснил гематр, не отрываясь от работы. – Чтобы звонок профессора не отследили. Надеюсь, они не мониторят вызовы в режиме реального времени.
Надеюсь, оценил Диего. И это говорит гематр! Вместо «вероятность семьдесят два с половиной процента». На Террафиме нам с Карни выпал счастливый билет – коллант, которого не может быть. А что, если…
– Сеньоры и сеньориты!
Он очутился в центре нездорового внимания.
– Что, если прилететь к профессору в большом теле? Так нас не отследят?
Пальцы Фриша замерли. Секунда, другая третья… На десятой гематр вернулся к работе. Коллантарии угрюмо молчали, отводили взгляды. Проклятье! Да они же боятся! Боятся выходить в большое тело!
– Колланты в атмосфере не летают, – буркнул рыжий. – Ты нам еще колеса приделай…
– Но ведь на планеты мы высаживаемся?
Мы, вздрогнул Диего. Неужели я сказал: «мы»? Господи, да иные за такое продались бы с потрохами! Я лично знаю таких.
– Ну?
– Взлетаем в космос, в окрестности… На орбиту! – маэстро вспомнил нужное слово. – И сразу обратно, к дому профессора. Сколько это займет времени? На нас успеют напасть?!
Бесполезно. Они с коллантариями, как пелось в солдатской песне, обменялись судьбой. Еще недавно Диего Пераль до холодного озноба боялся выйти в большое тело, опасаясь за свою бессмертную душу. Теперь же он всей душой стремился в космос, а коллантарии…
Стук в дверь прозвучал пистолетным выстрелом.
– Какого черта? – рявкнул Пшедерецкий.
– Извиняемся, Антон Францевич, – в дверях возник смущенный Прохор. – Там врачи прилетели. Говорят, по вызову.
– Веди их к больной. Нет, погоди! Я сам.
VIЧеловек-бык топал монструозными ботинками, отряхивая снег. Из ноздрей доктора валил пар. Форменная куртка – нараспашку: жарко в доме, да и куртка на брюхе не сходится. Ладони-грабли, кулаки-кувалды; дополняя картину, бугрилась складками могучая шея. Такой голову открутит за ненадобностью, вот и все лечение.
Справа от быка шаркал встрепанный санитар, чья макушка едва доходила врачу до плеча. Куртку санитар застегнул, но внизу она расходилась колоколом, по краю украшенным веревчатой бахромой. Веник, подумал Диего. Веник и Швабра. Сестра милосердия, тощая и жилистая, ростом не уступала доктору. Нелепая стрижка – щетка жестких черных волос – завершала образ.
«Стыдись, малыш, – из далекого далека укорил отец. – Назвать сеньору Шваброй? Пусть даже и в мыслях? До чего ты докатился?!» Одна такая сеньора, огрызнулся Диего, хотела взять меня в рабы. «В рабы? Только к хорошенькой! – хмыкнул Луис Пераль, большой жизнелюб. – Смотри, не опозорь мои седины!» Вся Эскалона обожала чувство юмора el Monstruo de Naturaleza, вся, кроме сына драматурга.