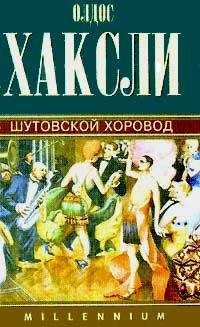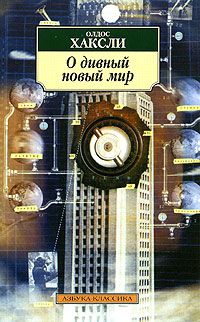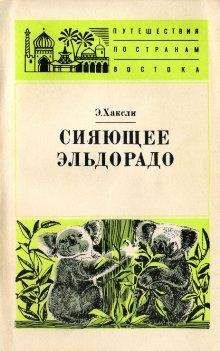Он замолчал. Миссис Вивиш посмотрела на темные деревья и прислушалась. Прошла целая минута. Потом старый джентльмен весело расхохотался.
— Глубочайшее заблуждение! — сказал он. — Никогда они так крепко не спали.
Миссис Вивиш тоже рассмеялась.
— Может быть, они передумали как раз тогда, когда просыпались, — сказала она.
Появился Гамбрил Младший; его сопровождал звон стаканов и легкое постукивание фарфора. Он держал в руках поднос.
— Холодное мясо, — сказал он, — и салат, и кусок холодного яблочного пирога. Могло быть хуже.
Они придвинули стулья к рабочему столу мистера Гамб-рила Старшего, и там, среди писем и неоплаченных счетов и эскизов герцогских дворцов, они поели холодного мяса и яблочного пирога и выпили двухшиллингового vin ordinaire[142] этого дома. Гамбрил Старший — он уже поужинал — посматривал на них с балкона.
— Я рассказывал тебе, — сказал Гамбрил Младший, — что вчера вечером мы видели сына мистера Портьюза — пьяного в доску?
Гамбрил Старший воздел руки.
— Если бы ты знал, сколько несчастий причинил этот юный кретин!
— А что он сделал?
— Проиграл в карты не знаю сколько взятых взаймы денег. А у бедного Портьюза нет никаких сбережений — даже теперь. — Мистер Гамбрил покачал головой и принялся расчесывать и сучить бородку. — Это ужасный удар, но Портыоз, конечно, сохраняет невозмутимое спокойствие и твердость… Вот! — Гамбрил Старший прервал себя и поднял руку. — Слушайте!
На четырнадцати платанах скворцы вдруг проснулись.
Поднялся страшный галдеж, как во время бурного заседания итальянского парламента. Потом все смолкло. Гамбрил Старший слушал как зачарованный. Его лицо, когда он повернул его к свету, было одна сплошная улыбка. Его волосы растрепались, казалось, сами по себе, изнутри, так сказать; он откинул их со лба.
— Вы их слышали? — обратился он к миссис Вивиш. — Интересно, о чем они могут разговаривать в такой поздний час?
— А вы чувствовали, что они готовы проснуться? — осведомилась миссис Вивиш.
— Нет, — чистосердечно признался Гамбрил Старший.
— Когда мы кончим, — с набитым ртом говорил Гамбрил Младший, — ты обязательно покажешь Майре свой макет Лондона. Она будет в восторге — в нем не хватает только электрических подвижных реклам.
У его отца вдруг сделался очень смущенный вид.
— Не думаю, чтобы он мог очень заинтересовать миссис Вивиш, — сказал он.
— Что вы, мне очень интересно. Серьезно, — заявила она.
— Да, собственно говоря, его здесь нет. — Гамбрил Старший принялся ожесточенно дергать себя за бородку.
— Его здесь нет? Что же с ним случилось?
Гамбрил Старший не стал объяснять. Он попросту пропустил вопрос сына мимо ушей и снова заговорил о скворцах. Позднее, однако, когда Гамбрил и миссис Вивиш готовились уходить, старик отвел сына в сторону и зашептал объяснения.
— Мне не хотелось распространяться об этом перед чужими, — сказал он, как будто речь шла о незаконном ребенке прислуги или о починке ватерклозета. — Но дело в том, что я его продал. В музее Виктории и Альберта давно прослышали, что я делаю макет; они все время хотели его приобрести. И я отдал его им.
— Но почему? — удивленно спросил Гамбрил Младший. Он знал, с какой отеческой нежностью — нет, более чем отеческой: он был уверен, что отец больше привязан к своим макетам, чем к сыну, — с какой гордостью он смотрел на этих детей своего духа.
Гамбрил Старший вздохнул.
— Виноват этот юный кретин.
— Какой юный кретин?
— Сын Портьюза, конечно. Видишь ли, Портьюзу пришлось продать, вместе с другими вещами, свою библиотеку. Ты не имеешь понятия, как много это значит для него. Все эти бесценные книги. Собранные ценой таких лишений. Мне захотелось купить некоторые из них, самые лучшие, для него. В музее мне дали очень хорошую цену. — Он вышел из угла и бросился помогать миссис Вивиш надеть пальто. — Разрешите мне, разрешите, — сказал он.
Медленно и задумчиво Гамбрил Младший вышел вслед за ним. По ту сторону добра и зла? Во имя уховертки… Пузатый пони бежал рысцой. Дикий водосбор, свисающий в тенистой роще орешника, крючковатые шпоры, воздушно-пурпурные шлемы. Двенадцатая соната Моцарта была как инсектицид: уховертки не заводились в ней. Груди Эмили были твердые и остроконечные, и под конец она заснула совсем спокойно. В свете звезд добро, истина и красота становились одним. Напиши об этих открытиях в газетах, quos, утром, legimus cacantes.[143] Они спустились по лестнице. Такси ждало у дверей.
— Опять Последняя Поездка, — сказала миссис Вивиш.
— Госпиталь Голгофы, Саутверк, — сказал Гамбрил шоферу и вошел вслед за ней внутрь.
— Едем, едем, едем, — повторила миссис Вивиш. — Мне нравится ваш отец, Теодор. Как-нибудь, в один прекрасный день, он улетит вместе с птицами. А как это мило со стороны скворцов просыпаться воттак, среди ночи, ради того только, чтобы его позабавить. Особенно если принять во внимание, как неприятно, когда тебя будят ночью. Куда мы едем?
— К Шируотеру, в его лабораторию.
— А это далеко?
— Невероятно далеко, — сказал Гамбрил.
— Благодарение Богу, — голосом умирающей набожно прошептала миссис Вивиш.
Шируотер сидел на своем стационарном велосипеде, непрерывно нажимая педали, как человек в кошмаре. Педали были присоединены к небольшому колесу под столом, а обод колеса, вращаясь, терся о тормоз, приспособленный специально для того, чтобы сделать работу велосипедиста тяжелой, но не чрезмерно тяжелой. Из трубки, выходившей из-под пола, вытекала струйка воды, падавшей на тормоз и охлаждавшей его. Но никакая струйка воды не падала на Шируотера. Его дело было нагреваться. И он нагревался.
Время от времени его собаковидный молодой друг Лансинг подходил и заглядывал в окошечко экспериментальной камеры — посмотреть, что творится внутри. Внутри этого деревянного домика, который мог бы напомнить Лансингу, если бы он отличался склонностью к литературным аналогиям, тот ящик, в котором Гулливер покинул страну Бробдиньянгов, творилось всегда одно и то же. Каждый раз, когда Лансинг заглядывал, Шируотер сидел на своем посту, в седле кошмарного велосипеда, и без конца нажимал и нажимал педали. Вода струилась на тормоз. И Шируотер потел. Большие капли пота сочились из-под волос, бежали полбу, повисали, как бусины, на бровях, попадали в глаза, скатывались по носу и вдоль щек, падали, точно капли дождя. Его толстая бычья шея была влажная, все его голое туловище, руки и ноги намокли и блестели. Пот лил с него, падал дождем на кусок прорезиненной ткани и стекал по ее складкам в большой стеклянный резервуар, стоявший под отверстием в центре ткани, там, где все складки сходились, как в фокусе. Автоматический терморегулятор, поставленный под камерой, поддерживал температуру на одинаково высоком уровне. Заглядывая в камеру через запотевшие стекла окошечка, Лансинг с удовлетворением отмечал, что столбик ртути неизменно показывал двадцать семьи пять по Цельсию. Вентиляторы в стенках и в крыше камеры были открыты — в воздухе Шируотер не испытывал недостатка. В следующий раз, подумал Лансинг, они герметически закроют камеру и проверят, какое действие оказывает чрезмерное потевиеплюс легкое отравление углекислотой. Это было бы крайне интересно; но сегодня их интересовало только потение. Убедившись, что температура держится на нужном уровне, что вентиляторы открыты, как нужно, и что вода по-прежнему струится на тормоз, Лансинг стучал в окошко. И Шируотер, медленно и неустанно катящийся на велосипеде по своей кошмарной дороге, поворачивал на звук голову.