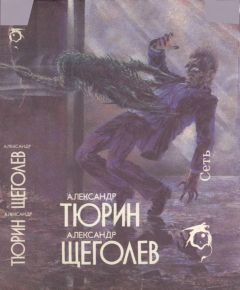Воры, налив глаза, тащили тряпье, сапоги, меховую рухлядь, серебряные оклады икон, шактулки с финифтью. У некоторых были закинуты за спины звонкие мешки с чашами, ендовами, блюдами, ковшами, поставцами и прочей утварью. У иных – тюки с пушниной, парчей, сафьяном, сукном. Несло воровское войско и тазы, и зеркала, и подсвечники, и рукомойники, и любое изделие медное. Даже бочонки с черносливом, миндалем и изюмом, на которых стояли заморские клейма.
Все, что Вологда терпеливо копила десятилетиями, ходя за пушным зверем к Поясу Каменному и моржовым клыком к Югорскому Шару, что получала из далеких земель через бурные воды у Кольского берега и льды Белого моря – все было расхищено жадным пришельцем. Не помогли не присяга воеводы Никиты Пушкина самозванцу, ни слезные прошения городовых дьяков о защите, направленные гетману литовскому Сапеге…
Какой-то черкас нес богатое женское платье с дырой кровавой, проделанной острием пики.
Лях тянул за волосы нагую девушку-отроковицу, то и дела нанося удары плашмя свой саблей по багровым спине ее и ягодицам.
Было и так, что, притомившись тащить таз или другое изделие, бросал его вор в грязь и, не оборачиваясь, шел дальше.
В одном месте черкасы дрались с гайдуками из-за серебряного кубка с чеканной персидской вязью. Сабли из ножен не вынимали, боясь своих начальников, однако били друг друга с остервенением. Лица у всех были залиты кровью, из расквашенных носов летели красные сопли. Некоторые уже изувечились и не могли встать.
Пара ногайских всадников тянула целую дюжину полонянников, связаннных пенькой попарно. Из седельной сумки степняка выглядывало зареванное лицо крохотного мальчонки. Уже не вопило дите, а только сипело надорванным горлом. У другого ногая на пику была нанизана голова, в которой Максим признал знакомого дьяка.
Максим видел над архиерейским двором дым и языки пламени, сжирающие высокую трапезную, стоящую на подклетях, но Софийского собора пожар не коснулся, хоть и почернели его пять глав от городской копоти. Привести туда детей и уйти из города на север. В храме детей не тронут, туда даже агаряне ногайские не полезут…
Но, когда Максим вышел на соборную площадь, то увидел, что на длинной веревке, привязанной к языку большого колокола, висит удавленный звонарь, а двери Софии сорваны и брошены на ступени крыльца. К дверям тем пригвожден почивший в муках игумен, а внутри царит мерзость грабежа и ходят кони.
Из храма выехал иноземный всадник, его бравый жеребец ловко переступил через тело игумена…
Всадник наставил на Максима палец и, сказав «The game is over», неспешно проехал мимо. Сзади к его поясу приторочено было несколько кусков кожи, снятых с головы человеческой вкупе с волосами. Русые были волосы, длинные и образовывали будто хвост.
Не будь здесь вашей стаи, я бы тебя этими волосами и накормил, подумал Максим.
Следующей из храма выехала светловолосая девица, грубовато нарумяненная, в платье женском, однако сидящая в седле по-мужски, отчего видны были не только голенища ее коротких сапожек, но и круглые коленки в шелковых чулках. На шее у нее висело ожерелье. Не перлы нанизала барышня на нитку, не бусинки, а уши человеческие.
– Чего буркала выкатил? – сказала она Максиму, выговаривая по ляшски лишь букву «л», и поехала вслед за иноземцем, сильно ерзая задом по седлу.
– Подушку под жопу положи, а то натрешь, синей будет, – не слишком громко сказал Иеремия и тут же получил подзатыльник от Максима.
Девица остановила коня и обернулась.
– Ах, да, прости, что нелюбезной была с тобой. Ты же к обедне явился, добрый прихожанин. – Она показала нагайкой на детей. – А не продашь ли ты мне их? Э, чего молчишь, чело-вече? Не по чину к тебе обращаюсь? Или язык в задницу спрятал?
– Ежели ты и про это ведаешь, то сама его доставай. Мне как, повернуться?
– Не шляхетское это дело в афедроне ковыряться, – продолжила девица. – Так что насчет деток? Я-то пенязей[17] не пожалею, но и ты не долго торгуйся. Ты ж из куреня атамана Мазуна, а этот военачальник прославлен лишь жадностью своей; ребят у тебя точно отнимет.
– Не продавай нас, дядя Максим. Глянь-ка на ее ожерелье, это ж баба-яга, только еще в девках, – мальчик шептал, держась за свои уши, как будто их могло сдуть даже ветром.
– Я чужим добром не торгую, – сказал Максим. – Станешь моей, девица-красавица, то я тебя так интересно продам, что по-далее Ефиопии окажешься, любимой женой у царя обезьяньего.
– El saludo, mi amable. Pensaba que te alegraras a nuestro encuentro.[18]
Этот голос послышался сзади. Максим обернулся и увидел женщину на коне. Ее рыжие волосы спадали из-под мужского берета. И была облачена она в богатое мужское платье, хотя поверх камзола грела ее соболья женская шубка.
– Слов таких не знаю, – отозвался Максим. – И она знает, что я не знаю. Может, у нее изъян какой в голове?
– Aunque has acabado alguno a nuestros muchachos, de nada te amenaza. Mientras que soy viva.[19]
Вот упертая, талдычит и талдычит.
– Да мне ее слова, что блеянье овечье, непонятность одна. Не ведаю, чего ей угодно. Может, в бане со мной попариться? Так это я быстро, только веточек наломаю, не извольте сомневаться.
Женщина сказала на своем языке несколько слов беловолосой девушке, и та снова обратилась к Максиму, от которого не укрылось, что ехавший впереди всадник остановил своего коня и передвинул ладонь на рукоять пистолета, заткнутого за широкий пояс.
– Ясновельможная госпожа ищет некоего Шаббатая из Порто, известного также как Орландо Сеговия, шпанского евреина, маррана, подложно принявшего христианскую веру, но втайне поклоняющегося темным духам, коих он вызывает силой кабалистического чернокнижия, – стала объяснять беловолосая девица, словно бы читая по-писанному.
– Нашла, где искать своего Забодая. И разве здесь она его потеряла?
– Сеньора считает, что Шаббатай – это ты.
– Ах, вот как. Тогда лекаря зовите иноземная боярыня русских мухоморов объелась, или суньте ей хоть снега за шиворот для поправки ума. Крапива под хвост тоже помогает.
– Чего эти злыдни хотят от нас? – заныла Настя, дергая Максима за рукав. – Они противные. Противные они все, убей их поскорее. Может, у них в карманах тоже камушки есть.
– Убить не помешало бы, – рассудительно произнес мальчик. – У них глаза жуткие, как будто из зениц чертики выглядывают. Дядя Максим, ты посмотри получше. Думаю, что ежели их разрубить, то внутри найдутся жабы и змеи ползучие.
И убью, подумал Максим. Вначале собью из пистоля иноземца, потом застрелю дурную бабу, что сзади. Девку белобрысую прирежу. Если они меня ранее умертвят, то хоть не увижу, что эти злыдни детей мучают.