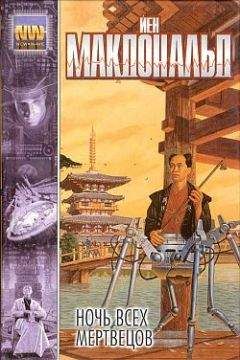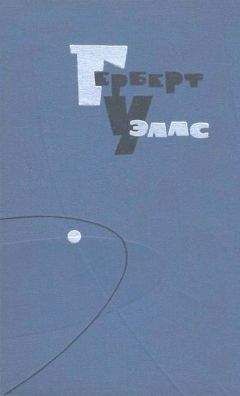– Предпринимать? – спрашивал Этан Ринг, которому и в голову не приходила мысль, что такое восхитительное создание может одарить его ответной любовью.
– Делай же что-нибудь, – уговаривал его Масахико, а вместе с ним Маркус, Бекка-с-и-на-конце, пьяницы, мыслители, шутники, позеры, пижоны, картежники, хорошенькие куколки и их кавалеры.
Однажды во вторник, зимним вечером, она постучала в его дверь, кружась, словно в вальсе, влетела в тесную, как шкаф, кухню и, заливая молоком рисовые хлопья (они взрываются на языке), сказала:
– Хочу тебе кое-что показать. Пошли! – и быстренько сунула его в ожидающее такси.
– Где?
– Здесь.
С переднего сиденья она вытащила компьютер и заплатила шоферу.
– Но здесь ничего нет. – В холодном ноябрьском воздухе изо рта у него повалил пар. Захваченный ее энергией, он выскочил, не накинув даже куртки, и теперь, дрожа, сунул свои длинные обезьяньи руки под мышки, чтобы согреться.
– Нет, есть. Здесь стройплощадка. И не просто стройплощадка, а площадка под Вайлдвуд-центр, ни больше ни меньше. Нумеро уно в программе развития досуга и торговли компании «Индастриэл Нортвест».
– Стройплощадка.
– Эй, охрана! – Она махнула рукой. Ночной сторож махнул в ответ из стеклянной кабины, висящей на стальном каркасе Вайлдвуд-центра. Металлические ворота с колючей проволокой по верхнему краю скользнули в сторону на взвизгнувших роликах.
– Ну, что, пошли?
Шаг за шагом, пролет за пролетом. Мощные желтые лампы качаются над головой, плоскости и столбы света пересекаются с тенями на прямоугольных рамах балок и этажей.
– Черт подери! – воскликнул Этан.
– Дело не в том, что ты знаешь, а кого знаешь. – Лука повела его к служебному лифту. – Но не в библейском смысле.
Вверх, вверх. Десять, двадцать, тридцать метров по световому стволу.
– Четвертый этаж. Дамская одежда, прорезиненный трикотаж, экзотические шляпки.
Она нырнула под защитные ворота и потянула за собой Этана в сюрреалистичное пространство бетонных горизонталей, прорезанных опорными колоннами и неоштукатуренными стенами. Местами полы и потолки еще не были закончены, зияющие пустоты открывались на нижние этажи, пропастями накладываясь друг на друга. Над головой только холодное ноябрьское небо, ежеминутно грозящее дождем. Вокруг кучами лежали неизбежные следы пребывания строителей. (Слышал бы ты, что они мне предлагали!) О господи, его инструменты, его игрушки, его картинки полуобнаженных девиц, банки из-под его диетической кока-колы.
Лука отцепила от пояса аудиовизуализатор и пару воспринимающих перчаток, передала все это Этану Рингу.
– Смотри и учись, любовь моя.
Бросок в преображенное восприятие ужасал и заставлял трепетать.
Плоскости и колонны ядовитых цветов, синусоиды, углы – и все они связаны рвущейся вперед силой и движением. Ощущение скорости, пока он мчался по бетонному полу, дугой выгибало его тело. Кислородные компрессоры, сварочное оборудование, электроинструменты, переносные генераторы тока превратились в вибрирующие вихри движения. Он видел заключенную в них энергию в форме мелькающих образов, растянутых во времени действий, втиснутых в статическое безвременье. Брошенная бутылка открывалась в спирали и плоскости сжатой энергии, смятая газета превратилась в головокружительный каскадный вихрь информации.
– Что это? – взмолился он, мечтая о стабильности, ища взглядом Луку и видя перед собой лишь пятно кинетической энергии.
– Стихия Бочиони. – Ее голос казался глубоким, надежным корнем, который уходил в глубь реальности, служил опорой в этом мечущемся мареве нестабильности. – Умберто Бочиони, дуайен итальянских художников-футуристов, 1882–1916, был одержим манией промышленности, энергии, скорости, агрессии. Это место абсолютно ему подходит. «Город вздымается!» Ты что, не чувствуешь? Здесь все прямо пропитано тестостероном! Из него вышел бы классный фашист, если бы он не расшиб себе голову, катаясь верхом как-то утром в Вероне и не прекратив преждевременно свое существование.
Малейшее движение его головы порождало вспышки цветной энергии, с бешеной скоростью уносившиеся прочь.
– Как ты это сделала?
– Компьютерами. Правда здорово? Я сделала ремикс старой видеосистемы обработки образов. Воспользовалась преобразованными коммерческими энзим-программами. Вскрыла ее и переформатировала. – Излучая листообразные сполохи света, она подобрала оптико-волоконный кабель, который горел и извивался от видимой глазу информации. – Камеры на голове фиксируют образы, мобильник их обрабатывает и снова подает на визуализаторы. Этот пока имеет только один режим – зрительный образ. Позже я смогу добавить другие измерения. Следующими, я думаю, будут кубисты, а потом, вероятно, даже стихия Кандинского. Может быть, Миро? А ты считал меня маленькой черной закорючкой с кляксой вместо головы? В конечном счете я желаю создавать мои собственные, отдельные вселенные. Стихия Луки, ни на что прежнее не похожая! Обретенные источники! Мусорная эстетика. Новые варианты реальности. – Она помолчала. – Они ничего не понимают, Этан. Другие из моего класса. Считают меня фашисткой, потому что я хочу использовать компьютерные ремиксы, чтобы создавать наложения реальности и виртуальности. Называют меня бездушной механисткой, глухой к духу времени двадцать первого века, застрявшей во вселенной количественных неопределенностей. Но я по крайней мере не равнодушна, я люблю то, что делаю. И люблю из-за того, почему это делаю. Я не забиваю по три раза в день свой микро-чип самой новейшей идеологической дрянью. А у них в голове только реализм и чтобы о них говорили нужные люди и чтобы нужные преподаватели о них упомянули; а если говорить о самих преподавателях, то наши тьюторы только и мечтают, чтобы на нужной вечеринке их не забыли. Чертова честность! Чертова оригинальность! Чертово искусство! – В ее голосе, доносящемся из самого сердца вихря, полыхающего водопадом образов, звучала темная, целеустремленная агрессия, которая одновременно пугала и возбуждала Этана Ринга.
Несмотря на бездушную механистическую глухоту к духу времени, за проект стихии Бочиони она получила награду и убедила Этана устроить по этому случаю вечеринку у него в квартире.
– А почему не у тебя? – поинтересовался он.
– Да, ну… – И больше никаких объяснений. Явились все, у кого хватило духу, и из ее группы, и из его. Они нелепо танцевали под невероятно громкую музыку. Невероятно много пили. Курили какую-то зверскую смесь, а кололи кое-что и похуже. Чудовищно вели себя на людях в неурочные часы, носились по улице, сидя на плечах друг у друга, падали на припаркованные машины, лупили по их корпусам, оставляя глубокие вмятины; визг противоугонной сигнализации разрывал вечерний город дикой какофонией звуков. И всю ночь он смотрел, как она ходит по его дому, пьет, смеется, хихикает, как потрясающе выглядит в умопомрачительном прорезиненном платье в окружении ярких, красивых, пьющих, смеющихся людей, которых она притягивает, как магнит, в то время как сам он не смеет потребовать для себя хоть одно слово, одну улыбку, один танец. Вернувшись из ванной, до того забитой наркотическим дымом, что уносил множество ее посетителей из круга реальности не хуже, чем виртуальные наложения Луки, он увидел ее и это ее умопомрачительное эластичное платье. Она вписывала слова в «Самый длинный кроссворд в мире», который тянулся вдоль всех стен его спальни-гостинной и убегал в крохотную кухню.