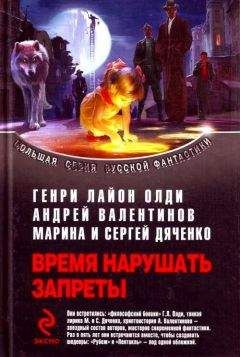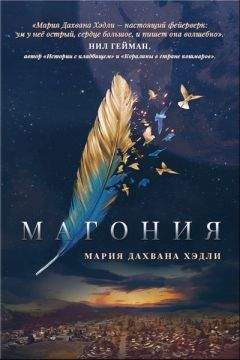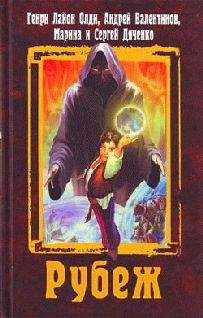– Да что ты мне свои жидовские вечерницы в глаза тычешь?! Разлегся перед паном, сучий потрох, шутки дурацкие шутишь… Встать!
Словно норовистый жеребец брыкнул задом под Сале. Женщина отлетела к стене, чудом удержавшись на ногах, и больно ударилась плечом о край портретной рамы. Узкоплечий молодчик с картины сочувственно улыбнулся: «Терпи, Куколка, терпи, мне больше терпеть доводится – ты живая, а я вон какой…» Цепь с белым камнем оттягивала шею молодчика, напоминая больше не украшение – груз, навешенный палачами будущему утопленнику. Глубокий вдох, медленный, опустошающий выдох; и когда Сале ощутила себя готовой повернуться, за спиной миролюбиво прозвучало:
– Ладно, пан Юдка, не бери зла в сердце! Сам понимаешь, как оно сейчас… иной раз и не выдержишь. Облаешь слугу верного, под горячую руку. Лежи, лежи, не береди рану-то…
Картина, представшая взгляду Сале, была прежней: пан Станислав на табурете, пан Юдка на топчане. Благодать, семейный вечер. Тихо горит лампа, тихо смотрит молодчик с портрета. Разве что в воздухе разлит терпкий, пьянящий аромат… опасности? крови? чего?! Нет ответа. И, похоже, чем дальше, тем больше становится вопросов и меньше – ответов.
Пан Станислав встал, поправил на носу окуляры.
– Сам сказал, пан Юдка, – бросил он с добродушной ухмылкой, – месяц лютый на дворе. Значит, к тринадцатому числу, к понедельнику, бабы на обед коржи-жилянки подадут да горелку мужьям по-доброму выставят – рот полоскать, чтоб ни крошки не осталось! Великий Пост с тринадцатого заходит, пан Юдка, с Жилистого Понедельника, как у нас, добрых христиан, говорят… А слыхал ли ты, пан Юдка, как в здешних краях да еще в Таврии этот понедельник по-свойски кличут? Когда боженька в сторону смотрит?!
– Мертвецкий Велик-День, – равнодушно отозвался консул, поудобнее умащиваясь на топчане. – Иначе Навское Свято.
– Пять дней осталось, значит… Нам пять дней, сотнику Логину – пять; владыке полтавскому тоже пять, чтобы анафему петь мне за это… как там подсыл сообщил?
– За грехи тяжкие упыря, злодея кровавого, и за связь с лукавым, врагом рода человеческого, – с тайным злорадством слово в слово повторила Сале и вспомнила, что собиралась задать милому другу Стасю один вопрос. – Пан Станислав, а что значит «упырь»? Это вроде Глиняного Шакала?
Гулкий хохот был ей ответом. Отсмеявшись, Мацапура рысцой протрусил к левому стеллажу, долго копался, с головой забираясь во вторые ряды, и наконец бросил женщине потрепанную книжицу, заложенную на середине шелковой полоской.
– Читай, милочка! Да вслух читай, дай и нам с паном Юдкой посмеяться…
– «Промемория войсковой енеральной канцелярии по делу Семена Калениченка», – начала Сале, досадуя на саму себя за несвоевременный вопрос; и вдвое – на Прозрачное Слово, за изрядные сбои в переводе. Если б она еще знала, что дальнейший текст будет вообще понятен едва на треть…
– Дай сюда!
Мацапура нетерпеливо вырвал у нее из рук книжицу и прочел сам, нараспев, во всю глотку, подражая площадному глашатаю:
– «Сего году, июля пятнадцатого дня, полковник киевский Антоний Танский прислал в войсковую енеральную канцелярию человека Семена Калениченка и при оном его допрос, в котором допросе показал Семен себе быть упиром, и якобы в городе Глухове и в Лохвици, прийдучой Спасовки сего году, имеет быть моровое поветрие. Пре то з войсковой енеральной канцелярии оный Калениченко и подлинный его допрос при сем в коллегию посылается. А по усмотрению упира оного разсудила войсковая енеральная канцелярия его быть несостоятельнаго ума, и потому оние его слова от него показани знатно по некотором в уме помешательству. О чем колегия да благоволит ведать». Поняла, милочка? – «…показани знатно по некотором в уме помешательству»! Вот оно, просвещение, вот плоды его сладкие!
С топчана хмыкнул консул. Видимо, он понял в этой тарабарщине существенно больше Сале.
Грузное тело Мацапуры плюхнулось в кресло, и бедная мебель взвыла, но выдержала. Книжица полетела в угол, шурша страницами, тень огромного мотылька метнулась по стене, вдребезги разбившись о край стеллажа. В окулярах полыхнул зеленый отсвет лампы, превратив лицо Стася в стрекозиную морду; Сале машинально прикрылась улыбкой – и строго-настрого заказала себе вести лишние разговоры с паном Станиславом о чем бы то ни было; во всяком случае, до возвращения на родину.
А там видно будет, кто кого на колене прокатит.
Меньше всего она жалела, в самом скором времени слушая удаляющийся топот копыт, что ей вторую ночь придется ночевать без любвеобильного Стася.
* * *
Впрочем, до ночи еще оставалось время. Постояв у внешней двери, Сале миг раздумывала: выходить наружу или нет? подышать воздухом на сон грядущий или поразмыслить в тишине о будущем? – но ее отвлек от размышлений знакомый тенорок с крыльца.
Аж дрожь пробила. «Подарки! подарки давай! Горелку давай! кендюх с луком! колбасу! галушек миску на складчину! да кланяйся, кланяйся! Ишь, дурна баба…» Женщина моргнула, успокоила дыхание и толкнула дверь, ругая подлое сердце свое за пустые страхи.
Раньше она была спокойней… или это иная, скрытая Сале, бездна в глубине, чаще стала являться?
На крыльце раскидывал с сердюками-караульными «дурня» на троих не кто иной, как Рудый Панько собственной румяной персоной. Кожух с лихостью распахнут настежь, изнутри светит зарницей свитка алого сукна; жидкая бороденка пасичника азартно встопорщена, и засаленные карты смачно шлепаются о доски крыльца.
– Король козырей! – брызгая слюной, выкрикивал дед, и глазки его из-под косматых бровей так и горели болотными огнями, что морочат головы путникам. – Что, принял? А?! кошачье отродье!.. А туза не хочешь? Туз, валет!.. Дурень ты, хлопец, як есть дурень, и приятель твой дурень от роду-веку! Подставляй нос!
Явление Сале спасло нос незадачливого сердюка от экзекуции. Нимало не смутясь, Рудый Панько встал, одернул кожух и поклонился женщине в пояс, заблаговременно сняв малахай.
– Звиняй, пани ясна, за шум, за горлопанство! Люблю, шельма сивая, в картишки перекинуться… ох люблю! Мимо шел, дай, думаю, зайду, за здоровье пана Юдки справлюсь! Як он там, а?
Сегодня речь пасичника была гораздо понятней. То ли Слово приноровилось, то ли еще что…
– Пан Юдка на ноги встал, – холодно ответила женщина, всем своим видом показывая нежелание вести светские беседы с дедом. – Сейчас спит, велел не тревожить. Завтра заходи. Или тебе не заплатили как следует?