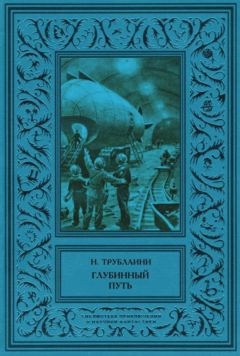Шелемеха и остальные командиры сняли головные уборы и склонили головы. Долго никто не нарушал грустную тишину…
На рассвете мы с Шелемехой приехали к нему на квартиру.
Только оказавшись на пороге дома, я почувствовал невероятную усталость, хотя в течение минувшей ночи от меня не потребовалось никаких физических усилий. Видимо, сказывалось большое нервное напряжение.
Я внимательно посмотрел на Станислава: как он чувствует себя? До сих пор полковник казался бравым и совершенно неутомимым. Его выносливости можно было только дивиться. Но сейчас передо мной стоял человек с окровавленной повязкой на голове, с почерневшим лицом и донельзя усталыми глазами. Ему тоже нелегко далась эта боевая ночь. Летчик стоял на пороге своего дома, где никто из подчиненных его не видел — и, возможно, именно поэтому на миг позволил усталости взять верх. Когда мы поднимались по лестнице, он глубоко вздохнул.
Но перед дверью квартиры он снова взял себя в руки. На его губах появилась улыбка, а в усталых глазах загорелись огоньки.
Навстречу нам выбежала Нина Владимировна.
— Стась, что с тобой?
Увидев на голове Станислава повязку, она испуганно бросилась к мужу.
— Ничего, — весело улыбаясь, ответил полковник. — Что-то царапнуло… Мы молодцы! — Он показал на себя и на меня. — Выиграли бой. И какой!..
Нина Владимировна стояла бледная, как смерть. Она многое пережила за эту ночь.
— Есть хотите? — спросила она, пересиливая себя.
— Спать, — ответил я. — Только спать.
— Идите.
Она показала мне на соседнюю комнату.
Я прошел туда и, не раздеваясь, упал на диван.
Полковник Шелемеха получил радиограмму: «Положение Лиды безнадежно. Требую разрешения на эксперимент. Барабаш».
Станислав показал мне телеграмму и сказал:
— Ты знаешь, я занят и выехать не могу. Каждую секунду я жду приказа о нашей передислокации ближе к фронту. Нина уже зачислена военным врачом и вылетает вместе со мной… Ты понимаешь, как много значит для меня жизнь сестры. Но обязанности офицера превыше обязанностей брата и даже родителей… Ты не мог бы поехать в санаторий «Сосновое» вместо меня? Там лежит Лида. Родители смогут прибыть к ней не ранее чем через два-три дня. Я дам тебе машину, и ты успеешь туда попасть еще сегодня.
Как ни хотелось мне самому попасть на фронт, где кипели бои за нашу отчизну, отказать Станиславу я не мог. Действительно, я был единственный близкий его семье человек, который немедленно мог отправиться в «Сосновое».
— Что за эксперимент? — спросил я.
— Ну, ты ведь, кажется, знаешь, что Барабаш последние годы работал над проблемой лечения рака. Он добился определенных успехов, но исследования его еще не закончены. Прежде чем применить разработанный им метод к людям, необходимо испытать его на животных… Недавно Барабаш писал мне, что, когда Лиде станет совсем плохо, он попросит у меня разрешения сделать эксперимент немедленно. На это предложение я тогда ничего ему не ответил. А сейчас… Что ж, сейчас придется согласиться. Я дам ему телеграмму… Так ты поедешь?
— Можешь не спрашивать, — сказал я. — Давай машину. Шофер мне не нужен. Через полчаса выезжаю. А телеграммы о своем согласии не посылай. Передай со мной письмо Барабашу. Я должен на месте убедиться, действительно ли положение Лиды безнадежно. Ведь эксперимент угрожает ей смертью!
— Смерть наступит и без эксперимента. А он дает хоть маленькую надежду…
Что можно было против этого возразить? Я был о Барабаше неплохого мнения, но довериться ему безоговорочно… Не знаю, хватило ли бы у меня духу для этого.
Станислав телеграфировал Барабашу согласие и предупредил его о моем приезде, добавив на всякий случай, что дает мне право принять окончательное решение.
Малолитражная машина, на которой я ехал, могла пробежать четыреста километров без дополнительной заправки. Это меня вполне устраивало. С началом войны положение с бензином обострилось — владельцам частных машин его почти не выдавали. Санаторий находился к северу от Москвы, но Станислав посоветовал объездной маршрут, дороги на котором были не так забиты.
В те дни по всей стране шло лихорадочное движение. Даже на объездной дороге я встречал военные колонны. Но они в основном шли навстречу, и я почти не задерживался.
«Сосновое» лежало среди густых лесов, километрах в полутораста от столицы. Чем ближе я подъезжал к санаторному городку, тем меньше мне встречалось военных автомобилей. Последние километры я ехал глухой лесной дорогой, ничем не напоминавшей о войне.
За одним из многочисленных поворотов показалась большая поляна. На ней стояло несколько домов. Среди них, ближе к лесу, возвышалось двухэтажное здание с верандой, украшенной резными деревянными колоннами.
Я остановил машину и направился к главному входу.
Навстречу мне вышла санитарка в белом халате и спросила, кого мне нужно.
— Могу ли я видеть доктора Барабаша?
— Он занят и сейчас никого не принимает.
— Скажите ему, что я приехал по очень важному делу.
Санитарка спросила мою фамилию и исчезла в коридоре. Я остался в вестибюле. Тут царила особая тишина, какая бывает только в больницах, где лежат тяжелобольные.
Через минуту сквозь стеклянную дверь я снова увидел санитарку, а за ней Барабаша. Ковер на полу в коридоре заглушал их шаги. Барабаш подошел ко мне и молча пожал мне руку. Он был бледен и печален.
Жестом он пригласил меня к себе.
— Как Лида? — спросил я, когда мы очутились не то в кабинете, не то в лаборатории.
Рядом с письменным столом там стояли столики с разными приборами и многочисленными бутылочками.
— Ее положение безнадежно… с точки зрения современной медицины, — тихо ответил Барабаш.
— То есть?.. — я старался сохранить спокойствие.
— То есть средства, которыми располагает медицина теперь, помочь ей не могут… Жить Лиде осталось два-три дня… два-три дня… — едва слышно повторил Барабаш.
Боясь, что и мой голос начнет дрожать, я немного помолчал.
— А… а эксперимент?
— Эксперимент дает какую-то неясную надежду… Я только что закончил опыты на кроликах и выяснил, что злокачественные опухоли можно лечить большими дозами открытых мною лекарств.
— Рак тоже?
— Да. В большинстве случаев последствия лечения были вполне удовлетворительны.
— Но было и иначе?
— Около двадцати процентов случаев окончились немедленной смертью. Полгода назад смертью заканчивались семьдесят процентов. Если бы мне еще год поработать! Один только год!.. Тогда я был бы совершенно уверен.