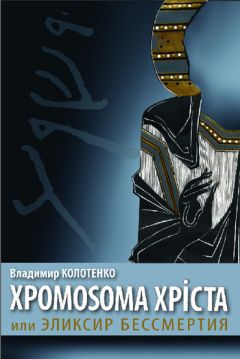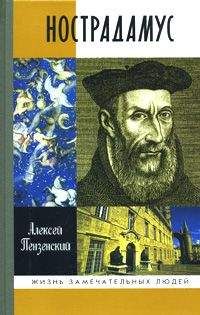Клетки понтифика, полученные из волосяных луковиц, прекрасно жили себе поживали, прилепившись к стеклянным подложкам в пенициллиновых флакончиках, жили не тужили. Они прекрасно делились, пролиферативный пул был очень высок, словом, давно были готовы воплотиться в новую жизнь. Вот и пришла пора. С ними были проделаны те же операции, что и с клетками Ленина. Популяция ядер тоже получилась безукоризненной. Ядра светились, сияли, смеялись. Они были полны жизни, просто хохотали, переполненные ожиданием прекрасного будущего.
- Папаша невероятно крепок, - радовался Юра, - он посвежее Ильича и куда жизнерадостнее. Вы бы видели его калий-натриевый насос: качает как при пожаре. Этот внутриклеточный пожар был для нас слаще меда и пуще всяких там призывов и лозунгов вдохновлял на подвиг во имя спасения человечества. Громко сказано? Да нет. Так на самом деле и было. Как только мы, часами вглядываясь в показания приборов, обнаруживали, что клеточки оживают, что у них разбухают митохондрии от избытка энергии жизни, что поверхность внутриклеточной сети обзаводится скоплением рибосом для продукции белка, что клеточная поверхность захватывает, как голодная рыба ртом, захватывает из окружающей среды питательные вещества, а лизосомы их активно переваривают, что жизнь внутри клеток бьет ключом и ничто не может ее остановить, мы приходили в совершенный восторг. Ай, да мы! Ай, да сукины дети!
Итак, Ленин и Папа Римский стали первыми. Модуляторами и биостимуляторами роста Аня с успехом провела временную коррекцию зиготы понтифика так, что его роды по прогнозу приходились на конец июня. Это всех нас устраивало.
- Слушайте, вы просто кудесники! - восхищалась Ната Куликова.
- Боги! - вторила ей Юля.
И снимала, снимала своей камерой каждый наш шаг. Мне казалось, что и все наши мысли были запечатаны в эту камеру. А Юта к этому торжественному моменту сочинила даже какую-то ораторию. У нас прослезились глаза. Я тоже был всеми доволен: большего я и не требовал.
Еще день ушел на переход к следующему апостолу. Эйнштейн! С ним было сложнее, так как ни одна волосяная луковица из волос его головы, которые нам удалось добыть в Америке (это еще один детективный сюжет), не дала роста в клеточной культуре. Аня с Юрой просто сбились с ног, но ни один посев не имел успеха. Пришлось брать волос из бороды гения. Или из усов. Мы даже не знали его происхождение. В том, что это была луковица Эйнштейна, сомнений не было, но откуда ее вырвали, мы не знали. Не все ли равно? Аня провела предварительную подготовку клеток, поместив их в индивидуальное биополе Эйнштейна, хорошенько, как только она умеет это делать, поколдовала над ними, попробовала культивировать и получила прекрасный обильный рост.
- Bon anniversaire, милые! (С днем рождения! - Фр.) - радостно приветствовала она новорожденных.
Пришлось поволноваться. Без Эйнштейна генерация наших апостолов выглядела бы бледновато. Эйнштейн - это Эйнштейн! Он без всякого рычага взял и перевернул землю с головы на ноги. Теперь каждому стало ясно, что все в мире относительно, что... Ясно ведь? Теперь каждая домохозяйка и каждый сапожник знают, что если...
Архимеду для этого нужен был рычаг. Он просил его у своих соплеменников, но ему так и не дали. Может быть, поэтому земля до сих пор еще вертится? С приходом в мир Эйнштейна и его последователей появилась угроза смещения оси. Теперь мы каждый день живем в ожидании свершения этой угрозы. Предчувствуя и понимая это, Эйнштейн, вероятно, и сжег свою теорию общего поля, по сути - программу и план развития человечества, по сути - архитектонику и сущность Духа Земли и рычаги управления, которыми какой-нибудь уродец мог бы воспользоваться, чтобы размахивать как кнутом, направляя телегу человечества в колею своих собственных нужд и желаний. «Рано» - решил, по-видимому, Эйнштейн, этот кнут вручать неразумному люду.
- Между прочим, - сказал Эяль, - мозг Эйнштейна, нейрон за нейроном, до сих пор изучают разные там патологоанатомы и нейрофизиологи, нейрохирурги и психиатры. Ничего особенного, ничего сверхнормального. Мозг как мозг, как у каждого смертного. А по поводу гениальности Эйнштейн как-то сказал, что гениальность - это вопрос свободы. У него тоже были трудности с обучением.
- Все дело в законе всемирного тяготения! - пояснила Нана. - Мозг Эйнштейна так же подвержен его действию.
Она нас просвещала. И все мы тяготели к ее красоте.
- Все великие евреи, - сказал Лесик, - никогда не изнуряли себя работой до пота...
- Кроме Иисуса, - сказал Жора.
- Он работал до кровавого пота, - сказала Юля. - Заметь разницу. И попытайся ее измерить.
- Слушай, - Лена поставила чашечку с кофе на столик и облизнула вдруг губы, - а Тина твоя случайно не еврейка?
Да какая мне разница?!
Это были те первые первопроходцы, которых мы доверить никому не могли. На создание каждого клона уходили сутки. Поочередно Аня могла пересаживать ядра через каждые сорок минут: 15 минут энуклеация, 15 минут пересадка. 10 минут приживление к стенке матки... Были попытки обучить кого-то еще всем этим нехитрым процедурам - ничего из этого не вышло. Казалось, не было проблем ни с энуклеацией, ни с пересадкой, ни даже с приживлением. Проблема была с выживанием. Даже Юра ничем здесь не мог помочь. Через несколько минут пересаженные Даном или Джессикой яйцеклетки сморщивались, куксились, теряли жизнеспособность, и даже Юля не в состоянии была вдохнуть в них новую жизнь. Мы намучились. И, в конце концов, отказались от услуг тех, кто с пылким воодушевлением хватался за микроманипулятор. Удивительное дело: клетки были послушны только Аниной воле. Никто другой не в состоянии был их приручить. Юра к этому относился спокойно, Жора злился.
- Чем ты их так чаруешь? - спрашивал он Аню.
- Я же ничего не делаю, - улыбалась она, - вот смотрите...
И проводила процедуру за процедурой, неустанно, легко и просто, просто гениально. Ни одно из пересаженных Аней ядер не дало сбоя. Все яйцеклетки просто благоухали, светились, сияли... От экрана невозможно было оторвать глаза. И Жора, наконец, сдался.
- Ты, как всегда, оказался прав, - признался он мне, - без Ани мы бы сели в огромную лужу. Я приветствую твой выбор и поздравляю!
- А я поздравляю тебя с прозрением! - сказал я.
Кто же из них Иуда? Всегда нужно следовать мировым традициям. Двенадцать так двенадцать.
- Иуда - первый, - сказал Жора, - не было бы Иуды с его поцелуем...
- Да-да, - поддакнул я, - не было бы и христианства. Я помню.
Но если есть двенадцать, то должен быть и их пастырь. Тринадцатый. Или Первый! Это место мы оставили вакантным. Свято место! Мы были уверены, что оно не останется пусто. Кто нарушает традицию, у того всегда есть повод к оправданию своих неудач.
- Что с Тиной? - неожиданно спросил Жора.
- Порядок, - соврал я.
Выбрав двенадцать, с пустым местом для первого, мы тем самым избавили себя от возможной унизительной процедуры оправдываться перед человечеством. И тем самым запретили себе даже думать о неудачах, отрезав все пути к отступлению. Итак - двенадцать!..
«В красном венчике из роз впереди Иисус Христос...»
- Я же просила, - тихо сказала Юля, - оставьте Христа.
Жора взял меня за локоть и крепко стиснул руку.
- С Тинкой не подведёшь?
- Больно же!
Я говорю какие-то глупости, чтобы Юля не донимала меня никакими вопросами. Это случилось, и я никак не мог этому помешать. Ну никак! Я же был тогда на другом конце Земли. Молчать же было еще ужаснее.
- Хочешь выпить? - спрашивает Юля.
Никаким алкоголем эту боль не унять!
- Да, налей, пожалуйста...
Мне ужасна и эта ее забота: неужели так плох?
- Я побуду один...
- Конечно-конечно, - говорит Юля и никуда не уходит.
Терять - это самое страшное, что можно испытывать в этой жизни.
- Спасибо, - говорю я, сделав глоток, и беру ее руку.
Юля стоит рядом молча, и этого мне достаточно, чтобы не сойти с ума.
- Скажи, - спрашиваю я, - разве я мог предупредить это зло?..
- Не мог, - твердо говорит Юля.
Массивный граненый стакан опустошается теперь одним большим глотком до самого дна.
- Хорошо, что ты...- произношу я, - что ты...
- Молчи, - говорит Юля, сжимая мою руку, - просто молчи...
Что смерть, думаю я, умрем мы все... Не страшно умереть самому, страшно терять...
То, что я могу вот так на огромной скорости сбить перила моста и рухнуть вместе с машиной в сверкающий далеко внизу Гудзон, меня нисколечко не волнует: дело сделано!
Но, может быть, это и не Гудзон? Я же не сплю! Ведь мне это не снится!
Будет ли наша Пирамида принадлежать и аристократам? Чтобы ответить на этот вопрос, я рассказываю историю об одном, приговоренном к смерти аристократе, который по пути к месту казни попросил дать ему перо и бумагу, чтобы что-то там записать...