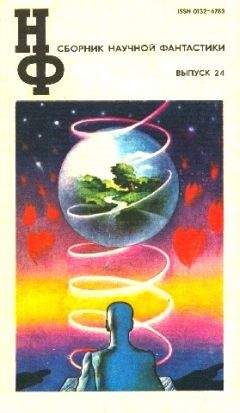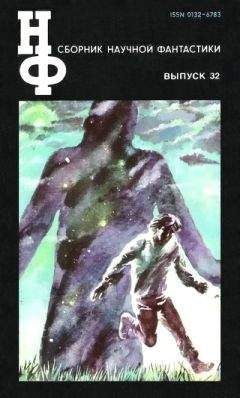Молнии, прямые, неразветвленные, били под несмолкаемый грохот разрядов. Где-то невдалеке с шумом повалилось дерево, затем другое и третье. Гроза бушевала уже около получаса, и Генрих не смел глянуть вниз, где вода, наверное, поднялась до середины стола. От усталости и нервного напряжения его била дрожь, под сплошным потоком дождя не хватало воздуха. Если это продлится еще чеса два, то он не выдержит. Сползет вниз, в наполненную водой чашу, и никто никогда не найдет его здесь…
А ведь до сегодняшнего дня ему так не хватало именно воды! Удушливый полдень Поллиолы толкал его к озеру, и он не переставал радоваться тому, что хоть на это-то его соломенная куколка оказалась пригодной: только здесь он узнал, что она была неплохой пловчихой. Правда, Генриха раздражало то обстоятельство, что на берегу, как алебастровая колонна, торчал в своей белоснежной аравийской хламиде неизменный Эристави. Конечно, смотреть — это всегда было неотъемлемым правом художника, но уж лучше бы он плавал вместе с ними. Хотя бы по-собачьи. А Герда заплывала далеко, на самую середину озера, а один раз — даже на другую сторону. Именно там они впервые увидели огуречное дерево — громадный, высотой с Александровскую колонну, графитовый стакан. Листья с него уже опали, и прямо через край верхнего среза перекатывались пупырчатые светло-сиреневые огурчики, словно стакан варил их, как безотказный гриммовский горшок. Огуречная каша затянула бы весь берег, если бы здесь не паслось великое множество представителей местной фауны, с одинаковым хрустом и аппетитом уминавших свежевыпавшие огурцы. Они еще долго забавлялись бы этим огородным монстром, если бы глаза Герды вдруг не расширились от ужаса.
Он глянул тогда выше, по откосу, и тоже увидел ЭТО. Они еще несколько минут стояли, читая готическую надпись, сделанную лиловым несмываемым фломастером, а затем тихо спустились к воде и как-то удивительно согласно, почти касаясь друг друга плечами, пересекли озеро, не обращая внимания на солнце.
Все это время на высоком берегу недвижно белела хламида Эристави. Взгляд художника был спокоен, почти рассеян: сейчас, когда рядом с его божественной Гердой был хоть кто-то — пусть даже муж, — его уже не пугала потенциальная опасность темно-зеленых озерных глубин, над которыми с легкостью серебряной уклейки скользило светлое женское тело. В других случаях присутствие Генриха как бы не замечалось художником, не принималось во внимание. Их сферы никогда не пересекались — Эристави боготворил Герду и рисовал ее; муж не умел ни того, ни другого. Сосуществование их было мирным, ибо обе сосуществующие стороны Добродушно желали своему противнику провалиться ко всем чертям, но не более. Оба были слишком заняты: Генрих — ничегонеделаньем, Эристави — созерцанием (в присутствии Герды) и рисованием (в ее отсутствие).
Выжимая волосы и не глядя на художника, Герда прошла так близко от него, что он явственно слышал звон каждой капли, нехотя расстающейся с ее телом. Следом, посапывая от усталости, тяжело взбирался с камня на камень Генрих. В другой раз он попросту прошел бы мимо. Но сегодня был особый случай.
— Странное дело, Эристави, — проговорил он, останавливаясь перед художником. — Там, на другом берегу — могила. Мы ведь не оставляем своих на чужих планетах… Но там — имя человека.
Они возвращались к коттеджу, стараясь ступать как можно тише, словно боясь вспугнуть густую жаркую тишину бесконечного полдня. Когда они подходили к дому, внутри него прозвучал мелодичный удар гонга, и благодушный немолодой голос возвестил: “Солнце село. Спать, дети мои, спать. Завтра я разбужу вас на рассвете. Приятных сновидений!”
Солнце стояло прямо в зените, и они взбежали по горячим доскам крыльца, ступая по собственным теням, и когда они перешагнули через порог, проемы окон и дверей бесшумно затянулись непрозрачной пленкой. Сумеречная прохлада наполнила дом шорохами влажных листьев, гудением майского жука и мерцанием земных звезд. А там, снаружи, продолжало сверкать бешеное белое солнце, и до заката его оставалось еще больше ста земных дней…
Воспоминание о солнце вернуло Генриха к действительности. Озеро, могильный камень с лиловой надписью… Все это приобрело четкость и правдоподобие бреда. Еще немного, и он совершенно перестанет владеть собой. Солнце, сотни раз проклятое, надоевшее до судорог, где ты?..
Дождь прекратился, когда он уже терял сознание. Час ли прошел или три — этого он не мог определить. Тучи все так же ползли, чуть не задевая верхушки деревьев, и между ними и туголиственной крышей этого необычного надводного леса плотной пеленой стояло марево испарений. Генрих обернулся, пытаясь сориентироваться, и невольно вздрогнул: еще одна туча, чернее прежней, шла прямо на него. Хотя нет… не шла. Стояла.
Он никогда здесь не был, но сразу же узнал это место по многочисленным фотографиям и рассказам: это были Черные Надолбы. Одна из загадок Поллиолы — огромный участок горного массива, без всякой видимой цели весь изрезанный ступенями, конусами, пирамидами, где скальные породы были оплавлены и метаморфизованы совершенно недоступным людям способом. До этой чернеющей гряды было совсем недалеко, метров двести, и Генрих, не задумываясь, прыгнул вниз, в мутноватую, подступающую л самой листве воду. Течение подхватило его, понесло от одного ствола к другому; он экономил силы и не особенно сопротивлялся, не боясь, если его снесет на несколько сотен метров. Два или три небольших водоворота доставили ему пару неприятных минут — пришлось нырять в непрозрачной воде. Он уже начал бояться самого страшного, что он потерял направление и теперь плывет в глубь водяного лабиринта, когда перед ним вдруг черным барьером поднялась базальтовая стена. Если бы не дождь, поднявший уровень воды, эта стена стала бы почти непреодолимым препятствием на его пути. Сейчас же он проплыл немного вдоль нее, отыскивая место, где она шла почти вровень с водой, и, наконец, ползком выбрался на берег.
И только тут он понял, что больше не в состоянии продвинуться вперед ни на шаг. Даже вот так, на четвереньках. Он лежал лицом вниз, и перед его глазами влажно блестела полированная поверхность черного камня. Пока нет солнца, он позволит себе несколько минут сна, а за это время прилетит вертолет. Он нащупал на поясе замыкатель автопеленга. Контакт. Ну вот еще минут тридцать–сорок, и все закончится.
Он медленно прикрыл глаза, но темнота наступила раньше, чем он успел сомкнуть ресницы. Сон это был — или воспоминание? Наверное, сон, потому что он попеременно чувствовал себя то Генрихом Кальварским, то каким-то сторонним наблюдателем, или вдруг начинал слышать мысли собственной жены — то, чего ему не удавалось в течение всей их совместной жизни. Сновидение отбросило его назад, в прохладу вчерашней ночи, и южные звезды мерцали в едва угадываемых окнах, и Герда, как разгневанное привидение, расхаживала по их широченной — пять на пять — постели, и ему во сне мучительно хотелось спать, но слова Герды, холодные и звонкие, валились на него сверху, из темноты, словно мелкие сосульки.