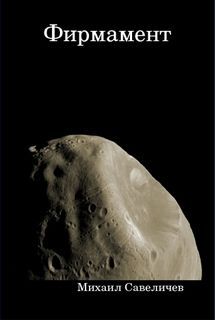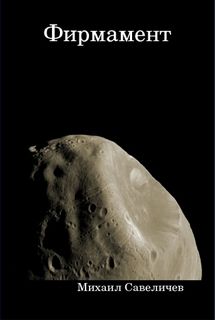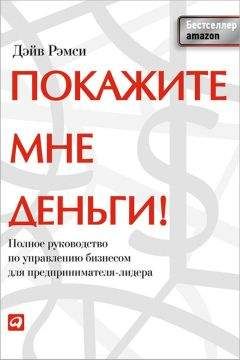Истертые решетки уровней не выдерживали резонанса шаркающих ног и раскрывались разлохмаченными отверстиями лопнувших тяг, толстыми иглами прокалывающих неудачников, обращая бегущих в черных, шевелящихся в агонии жуков, испускающих слизь в разверстые рты мрачного зазеркалья, откуда в ответ на безумие начинали просачиваться жуткие создания цивилизационной мутации, в которых никто бы не признал корабельных крыс, улиток и тараканов.
Раззявленные челюсти, когти и ядовитая слизь вклинивались приземистыми ножами в плотную ткань толпы, проедая среди миллионов ног новые ходы, двигаясь безошибочно по силовым линиям страха к теплым коконам смутной родины. Объеденные снизу тела еще не чувствовали боли, но кровь из разорванных вен водопадами обрушивалась в тайные лабиринты, соблазняя крыс забыть на время об ужасе спасения во имя жажды вечно полуголодного состояния, выстраивая пирамиды в выедаемых изнутри телах и прорываясь на плотную поверхность промороженного жутью человеческого моря из фальшивых масок сожранных лиц.
Черные ручьи растекались среди орущих голов, набирая силу на пути к кораблям, и осатаневшие команды поливали напалмом прибывающее наводнение, прорубая в спасительной для них самих плотине широкие бреши, сквозь которые в огне и боли втекали, сметая любые преграды, крысы, крысы и крысы…
Не было ни смысла, ни возможности выбирать раскинутые пути спасения — в общем монолите стерилизующего ужаса, угрюмого напора, колонии, или по головам и плечам людей в компании зубастых отбросов, по топкой поверхности, чреватой неожиданными омутами нелинейной динамики турбулентных потоков, непредсказуемыми разряжениями, беззвучно глотающих таких же умников под неподъемную мантию железных ботинок, вминающих и переваривающих упавших в неразличимую слизь, или в гордыню парализующей безнадежности, оцепенелого страха, растянутых в фальшивой мольбе милосердия блеклых лиц, скрюченных фигур, вынесенных на как будто спасительные обочины ответвлений общего крестного пути.
Кирилл стоял в полутьме моргающих ламп, прислонившись к сохранившемуся островку пластиковой поверхности, из под которой угрожающе змеились провода, разглядывал идущих и идущих людей, феерической инсталляцией упорства жизни проплывающих в окутывающем шорохе и неразличимом шепоте тысяч и тысяч губ, порой рождающих непреднамеренный ритм, резонанс ясных слов на неизвестном языке. Словно надвигающаяся вечность вещала через жертв, уже готовых упасть в подставленные ладони принимающего плод мироздания, таких неважных, отстраненных от короткого замыкания на реальности, на софистике лживых размышлений, остаточными зарядами конденсированной культуры пробивающих непонимание умеющих слушать чревовещанием возможного спасения.
С трудом приходилось удерживать себя от соблазна присоединиться к стремящимся и страждущим собственным механически двигающимся телом, или обманом одуряющего бессилия нищих, цепляясь за все еще проглядывающий сквозь отчаяние и слезы стальной стержень злой иронии, готовой в любом деянии отыскать презрительную патетику заимствованных фраз и поступков. Обвисли нити прошлого и будущего, хаотично дергавшие расшатанную марионетку судьбы, оставляя пустоту свободы, в которой уж точно не было никакой обещанной надежды, счастья, облегчения, а лишь пустота и невероятное спокойствие меры в самом себе, всевластья над самим собой, полученным в обмен на бессилие перед долгом — жестокой награды за право жить.
Готовность любого вгрызаться в обстоятельства во имя сохранения собственного тела, на гребне мольбы о великих делах будущего, будь то вегетация или бездействие, наталкивалась на настоящее, на краткое, эфемерное пребывание в вечной правде жизни, на страшное ощущение живой вселенной, взаимоувязанной неисчислимыми нитями более глубокой связи, нежели механистическая причинность, на медитативную роскошь одного такта объятия бесконечности, преломления в эстетике мышления катарсисом красоты, снимающим тяжелые наросты ненужной брони для последнего путешествия. Никто этого не хотел чувствовать, внезапно осознал Кирилл, он был в одиночестве на пороге прозрения, оставалось только заглушить в себе тень удивления и гордыни, потому что не было здесь ни награды, ни спасения. Будущего не существовало, прошлое погибло, настоящее не имело значения.
— Страшно, — подтвердил голос за спиной.
Кирилл кивнул. Оборачиваться не имело смысла, вид не имел значения, да и какой мог быть лик у вещающей совести?
— Хорошее время для философских споров, для изощренной лжи софистики, чье небытие просачивается в нас.
— Нет вообще хорошего времени, — ответил Кирилл, — ни для споров, ни для жизни.
Фигура облеклась в тьму, просветлела незнакомым лицом. Человек тоже смотрел на марширующие ряды, отстраненным равнодушием противясь плотной ауре коллективного ужаса.
— Всегда встает вопрос — что делать, когда ничего уже сделать нельзя. Даже если ты его себе не задаешь. Кто-то виновен в конце Ойкумены, невинный камешек, сорвавший с гор ластик ледника.
— И кто же этот титан? — усмехнулся Кирилл.
Собеседник помолчал и неохотно подтвердил:
— Вы, например. Разве вы не чувствуете собственную вечную вину? Абсолютную греховность существования в таком мире? Необъятную ответственность перед каждым, кого не спасли или, наоборот, убили?
— Я убил слишком мало, чтобы претендовать на вину.
— Для Ойкумены это не имело значения. Не надейтесь в сравнении взвесить и оценить рок каждого.
Кирилл отвернулся от разряженного света, сполз по стене вниз и вытянул ноги. Затылок опирался на влажную твердость какой-то трубы. О, кто там мог бы быть в бесконечных небесах, великое безымянное, метафизическая категория, которую так и не смогли напитать идеей и эйдосом, целостностью и различием, — провисшее слово, забытое и презренное. Оборот речи, переключающий эгоизм от хрупкой реальности на недостижимость божьего гласа, громоотвод человечности, концентрирующий надежду в правде, в еще одном теперь пустом слове, не отзывающееся постоянным чудом спасения. Лишенные небес мы оказались лишены речи, повода обратиться к самим себе, не коммутировать, не враждовать, не обманывать тех, кто вне нас, но установить метафизический диалог с совестью или с сомнением.
— И это не то, — сказал человек. — Бессмысленно перебирать предикаты, проявления предательства, нужно заглянуть в сущность, в идею, в то, что оно само есть по существу. Можно, но непродуктивно, спорить о них, о тех, кто тоже мог что-то сделать, но что это даст лично вам?
— Вы бог?