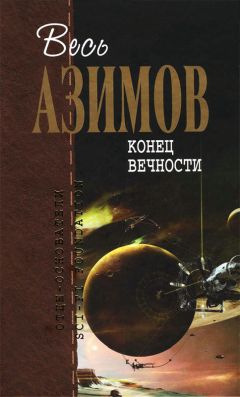Готтштейн продолжал, словно его не перебивали:
— В то время мне было поручено — сенатором, я имею в виду — заняться Электронным Насосом и проверить, не сопровождается ли его установка и эксплуатация неоправданными расходами и личным обогащением. Такое расследование вполне отвечало задачам комиссии, но, между нами говоря, сенатор надеялся обнаружить что-нибудь компрометирующее Хэллема. Его тревожило чрезмерное влияние, которое тот приобрел в науке, и он хотел как-то подорвать хэллемовский престиж. Но у него ничего не вышло.
— Последнее очевидно. Хэллем силен как никогда.
— Никаких тёмных махинаций обнаружить не удалось, и, уж во всяком случае, Хэллем оказался совершенно чист. Он скрупулезно честен.
— В этом смысле — пожалуй. У власти есть своя рыночная цена, которая вовсе не обязательно измеряется деньгами.
— Но меня заинтересовало другое, хотя продолжить расследование в этом направлении я тогда не мог. Среди тех, кого опрашивала комиссия, нашёлся человек, который возражал не против власти Хэллема, а против самого Электронного Насоса. Я присутствовал при беседе с ним, хотя сам в ней активного участия не принимал. Этим человеком были вы, не так ли?
— Я помню разговор, о котором вы говорите, — осторожно сказал землянин. — Но вас я всё-таки не припомню.
— Тогда меня поразило, что у кого-то нашлись чисто научные возражения против Электронного Насоса. Вы произвели на меня такое впечатление, что на корабле ваше лицо сразу же показалось мне знакомым. А потом я припомнил всё остальное. В список пассажиров я не заглядывал, а решил просто положиться на свою память. Вы ведь доктор Бенджамин Эндрю Денисон, не так ли?
Землянин вздохнул.
— Бенджамин Аллан Денисон. Совершенно верно. Но, собственно говоря, какое это имеет значение? Мне нисколько не хочется ворошить прошлое, сэр. Я сейчас на Луне и хотел бы начать всё заново, С самого начала, если потребуется. Чёрт побери, я же думал изменить имя!
— Это не помогло бы. Я ведь узнал ваше лицо. У меня нет никаких возражений против вашего намерения начать новую жизнь, доктор Денисон. И я не собираюсь вам мешать. Но мне хотелось бы выяснить одно обстоятельство, которое вас затрагивает лишь косвенно. Я не помню точно, какие возражения против Электронного Насоса вы тогда выдвигали. Вы не изложили бы их снова?
Денисон опустил голову. Пауза затягивалась, но новый представитель Земли не прерывал её. Он даже постарался не кашлянуть. Наконец Денисон сказал:
— В сущности, обоснованных аргументов у меня не было. Простая догадка, опасения, что напряженность сильного ядерного поля может измениться. Короче говоря, ничего конкретного.
— Ничего? — Готтштейн всё-таки откашлялся. — Извините, но мне хотелось бы разобраться. Я вам уже сказал, что вы тогда очень меня заинтересовали. Но в тот момент у меня не было возможности этим заняться, а сейчас мне вряд ли удастся получить нужные сведения. Сенатор тогда потерпел поражение, а потому принял все меры, чтобы этот факт не стал достоянием гласности. Но кое-что я всё-таки припоминаю. Одно время вы были сослуживцем Хэллема. И вы не физик.
— Совершенно верно. Я был радиохимиком. Как и он.
— Поправьте меня, если я ошибаюсь, но начало вашей карьеры было многообещающим, не так ли?
— Это подтверждается объективными фактами. И у меня никогда не было склонности к переоценке собственной личности. Я действительно показал себя блестящим исследователем.
— Поразительно, сколько подробностей я, оказывается, помню! Хэллем, с другой стороны, особых надежд не подавал.
— Да, пожалуй.
— Тем не менее ваша научная карьера оборвалась. И когда с вами беседовали… вы ведь сами к нам пришли, насколько я помню… вы работали на фабрике игрушек.
— В косметической фирме, — сдавленным голосом поправил Денисон. — Мужская косметика. Что не послужило хорошей рекомендацией в глазах вашей комиссии…
— Да, конечно. К сожалению, это обстоятельство не придало весомости вашим словам. Вы, кажется, были коммивояжером?
— Нет, я заведовал отделом сбыта. И представьте себе, справлялся со своими обязанностями опять-таки блестяще. Когда я решил бросить всё и уехать на Луну, я был уже вице-президентом компании.
— А Хэллем имел к этому какое-нибудь отношение? К тому, что вы должны были бросить научные исследования?
— С вашего разрешения я предпочел бы оставить эту тему, сэр! — сказал Денисон. — Теперь это уже не имеет ни малейшего значения. Я практически присутствовал при том, как Хэллем открыл конверсию вольфрама и начались события, которые в конце концов привели к появлению Электронного Насоса. Что произошло бы, не окажись я в этот момент там, сказать не берусь. Вполне возможно, что месяц спустя и Хэллем, и я умерли бы от лучевой болезни или через полтора месяца стали бы жертвами ядерного взрыва. Не хочу гадать. Во всяком случае, я оказался там, и Хэллем стал тем, чем он стал, отчасти благодаря мне, а я по той же причине стал тем, чем стал. И к чёрту подробности. Вам довольно этого? Потому что ничего больше вы от меня не услышите!
— Пожалуй, довольно. Значит, у вас есть основания относиться к Хэллему с личной неприязнью.
— Да, в те дни я к нему, безусловно, нежных чувств не питал. Как, впрочем, и сейчас.
— Так не были ли ваши возражения против Электронного Насоса продиктованы желанием поквитаться с Хэллемом?
— Это допрос? — сказал Денисон.
— Что? Конечно, нет. Я просто хотел бы получить у вас некоторые справки в связи с Электронным Насосом и рядом других проблем, которые меня интересуют.
— Ну что же. Можете считать, что личные чувства сыграли тут некоторую роль. Из-за неприязни к Хэллему мне хотелось верить, что его престиж и популярность опираются на обман. И я начал раздумывать над Электронным Насосом, надеясь обнаружить какой-нибудь недостаток.
— И поэтому обнаружили?
— Нет! — Денисон гневно стукнул кулаком по ручке кресла и в результате взвился над сиденьем. — Нет, не поэтому. Да, я обнаружил сомнительное звено. Но по-настоящему сомнительное. Во всяком случае, с моей точки зрения. И я, безусловно, не подтасовывал факты ради того, чтобы подставить Хэллему ножку.
— О подтасовке и речи нет, доктор Денисон, — поспешно сказал Готтштейн. — Разумеется, я ни о чём подобном не думал. Но, как известно, попытка делать выводы на самой грани известных фактов обязательно требует каких-то допущений. И вот на этой зыбкой почве вполне честный выбор того или иного допущения может бессознательно зависеть от… гм… от эмоциональной направленности. Вот почему не исключено, что свои допущения вы выбирали с заранее заданной антихэллемовской направленностью.
— Это бесплодный разговор, сэр. В то время мне казалось, что мой вывод достаточно обоснован. Но ведь я не физик. Я радиохимик. То есть был когда-то радиохимиком.
— Как и Хэллем. Однако сейчас он самый знаменитый физик мира.
— И тем не менее он радиохимик, причем на четверть века отставший от современных требований науки.
— Ну, о вас того же сказать нельзя. Вы ведь приложили все усилия, чтобы переквалифицироваться в физика.
— Я вижу, вы по-настоящему покопались в моём прошлом, — еле сдерживаясь, сказал Денисон.
— Но я же сказал вам, что вы произвели на меня большое впечатление. Всё-таки поразительно, как всё воскресает в памяти! Но сейчас мне хотелось бы спросить вас о другом. Вам известен физик Питер Ламонт?
— Мы встречались, — с неохотой буркнул Денисон.
— Как, по-вашему, можно назвать его блестящим исследователем?
— Я недостаточно хорошо его знаю для подобных заключений. И вообще не люблю злоупотреблять такими словами.
— Но как по-вашему, можно считать, что он берёт свои теории не с потолка?
— Если нет прямых доказательств обратного, то, на мой взгляд, безусловно.
Готтштейн осторожно откинулся на спинку кресла, весьма хрупкого на вид. На Земле оно, безусловно, не выдержало бы его веса.
— Можно вас спросить, как вы познакомились с Ламонтом? Вы уже что-нибудь знали о нём? Или никогда до этого о нём не слышали?
— У нас было несколько встреч, — сказал Денисон. — Он собирался написать историю Электронного Насоса — полную и исчерпывающую. Другими словами, полное изложение дурацких мифов, которыми всё это обросло. Мне польстило, что Ламонт меня разыскал, что я его интересую. Чёрт побери, сэр, мне польстило, что он вообще знает о моём существовании! Но что я мог ему рассказать? Только поставил бы себя в глупое положение. А мне это надоело. Надоело мучиться, надоело жалеть себя.
— Вам известно, чем занимался Ламонт в последнее время?
— Что вы имеете в виду, сэр? — осторожно спросил Денисон.
— Примерно полтора года назад Ламонт побывал у Бэрта. Я уже давно ушёл из комиссии, но мы с сенатором иногда встречаемся. И он рассказал мне об их разговоре. Он был встревожен. Он считал, что Ламонт, возможно, прав и Электронный Насос действительно следует остановить, но не видел никаких путей для принятия практических мер. Меня это тоже встревожило…