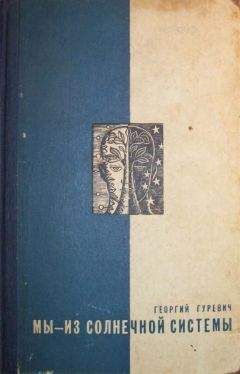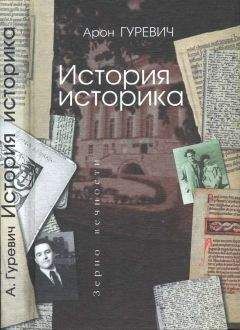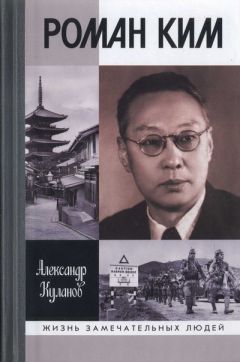— Непереводимые, нечленораздельные звуки, выражающие крайнее горе и отчаяние.
Почему-то плачущие девушки, в особенности чернокудрые, вызывают у Кима непреодолимое стремление оказывать помощь. Ким берет у девушки позывные (Неаполь. Джули 77–82), обещает то, что не имеет права обещать, и сам через барьер нуля вызывает профессора Зарека.
— Юноша, надо выдерживать характер, — говорит ему профессор укоризненно. — Есть решение Ученого Совета: никаких скороспелых кустарных опытов. Гхора надо понаблюдать.
— Но у нее умирает мать, — оправдывается Ким. — Добрая, любящая, мать одиннадцати детей, трое совсем маленьких.
И Зарек сам вопреки логике соглашается связаться с Ксаном.
— Женщины все еще плачут на планете, дорогой Ксан. Как быть?
Радиоволны находят Ксана в кафе, что против библиотеки Ленина. Поглядывая сквозь витрину на молодежь, пляшущую на улице, Ксан прислушивается к словам, вмешивается, заговаривает сам — делает свой «выборочный опрос».
— Уважаемый профессор, вы наносите мне удар в спину, — говорит он Зареку. — Сами же вы, медики, продиктовали решение: ничего не предпринимать, пока ведутся наблюдения. И будьте справедливы. На Земле умирает ежегодно миллиард стариков. Вчера я вас спрашивал: сколько вы способны оживить? Вы ответили: не более тысячи в год, по пять человек на каждый Институт мозга. Как отбирать эту тысячу из миллиарда?
По старинному принципу, который в двадцатом веке назывался знакомством? Девушка просит Кима, Ким — вас, вы — меня, я разрешаю… Так?
— Я не могу отказать, — упавшим голосом говорит Зарек. — Отказать в жизни! Это не лучше убийства.
— А как быть со всеми остальными, не догадавшимися плакать перед вашим Кимом? Три миллиона умрет сегодня. Их мы не убиваем?
Профессор молчит, понурившись.
— Вот такие терзания нам предстоят, ум Зарек. Каждодневно кого-то приговаривать к смерти, кому-то отказывать в помиловании!
— Что же сказать этой плачущей девушке, ум Ксан?
— Ну, черт возьми, чего вы от меня хотите? Есть у них ратолаборатория в Неаполе? Пусть запишут старушку, положат в архив. А очередность я решать не буду. Совет Планеты решит. Вот соберемся после праздника, примем общий порядок, единый закон продления жизни.
Расстроенный, смотрит он на кипящую толпу. Людской океан на Земле, миллиарды и миллиарды — вот в чем проблема. Дать счастье одному умели еще в Древнем Египте. Но принцип коммунизма — «по потребности всем». Всем! Миллиардам!!!
— Ну что ж, надо внести ясность, — говорит он себе, нерешительно поглядывая на браслет.
В толпе разговаривать неудобно, оглушают, хватают под руки, тащат в хоровод. К счастью, неподалеку, под Кремлевской стеной, павильончик с надписью: «Дом далеких друзей». Сегодня там пустовато: нет инженеров, консультирующихся с Мельбурном и Магаданом, нет молодоженов, собирающих перед экранами со всего света родственников.
Ксан вызывает троих: Ота из Японии, Мак-Кея из Канады и Ааста Ллуна со спутника «Гром-7». Одиссею, увы, нельзя позвонить. Отставной подводник вслед за морем покинул и сушу тоже… сердце сдало.
— Всех вместе, на конференцию? — спрашивает радистка.
— Нет, по очереди, пожалуйста. Одного за другим, как подойдут.
Первым зажегся японский экран. Ксан увидел комнату, устланную циновками, две картины на стене, два цветка на столике, а за окном белую пену цветущих вишен и сахарную голову вулкана Фудзияма. Дома далеких друзей повсюду старались ставить так, чтобы на заднем плане виднелся характерный местный пейзаж. Ота, в свою очередь, голову Ксана видел на фоне кирпичных зубцов Кремлевской стены.
— Хотим пригласить тебя в Москву, Ота. Опять будет спор: как назвать наступающее столетие?
Японец грустно улыбнулся.
— Харакири делают один раз, ум Ксан.
— Главное возражение отпало, Ота. Теперь никто не станет утверждать, что океан не надо застраивать, потому что он продуктивнее суши. Мы больше не добываем пищу в море.
Лицо японца не оживлялось.
— Харакири не делают дважды, ум Ксан. Треснуло что-то в душе, нет сил на напрасные споры. Два года я жил в тишине, украшая хризантемами берега, два года слушал музыку прибоя. И океан пристыдил меня, отплатил добром за зло. Я хотел уничтожить его, а он подарил мне спокойствие. Не думаешь ли ты, Ксан, что спокойствие-дорогой продукт и не надо искоренять его на Земле?
— Мы не добываем пищу в море и не добываем на суше, — повторил Ксан. — Только поэтому ты можешь спокойно сажать хризантемы. Проблема «пища или клумбы?» снята, но кажется возникает новая — «клумбы или жилье?».
Ота так и не согласился приехать в Москву, обещал прислать помощников, «молодых и безжалостных», как он выразился.
Ни намека на трещину в душе не оказалось у рослого канадца. Мак-Кей прибежал в свой Дом далеких друзей на лыжах, поставил их в углу, стряхнул снег рукавицей, потом уже обратил к Ксану румяное, морозом подкрашенное лицо. Чистые снега, прорезанные голубой лыжней, виднелись за его плечистой фигурой.
— Великолепно пробежался, — воскликнул он. — С ваших конференций приезжаю больной, выжатый как лимон. А тут взбодрился, помолодел, сил набрал. Погляди мускулы. Слушай, Ксан, у меня есть поправка к прежним моим проектам. Я думаю, молодежь для закалки должна годик-другой пожить в суровом краю.
И вообще во всех странах хорошо бы создать островки холода. Может быть, горы сооружать, небольшие такие пригородные хребты для восхождения и лыжного спорта. Я как раз разрабатываю типовой проект: высота пять-шесть тысяч метров, площадь — сто квадратных километров. Вы пожертвуете сто квадратов возле Москвы?
Ксан с трудом сдержал улыбку:
— И что же, Мак, уничтожать будем зиму или внедрять?
— Одно другому не мешает. Мы уничтожим полярные страны, но сохраним заповедники морозца. Жалко губить это белое великолепие. Без зимы квелая будет молодежь.
Мак-Кей так был увлечен поправками, говорил только о поправках, только о дополнениях. И на дискуссию согласился приехать, но главным образом, чтобы рассказать об островках зимы.
Простившись, Ксан чистосердечно расхохотался, потом посерьезнел, спросил сам себя: «Что же это, логика такая у человеческой натуры? Скучно без любимого врага, хочется его сохранить. А может быть, Мак-Кей и Ота отступились, потому что не чувствуют за собой правды? Что предлагал Мак-Кей раньше? Подарить пятнадцать процентов суши, занятых сегодня льдами.
Но население Земли удвоится через одно поколение, пятнадцать процентов не решают. Что обещает Ота? Максимум — утроение. Но население Земли учетверится через два поколения, через полвека. Так стоит ли ради полувековой выгоды переиначивать всю родную планету? Остается одно: космос. Интересно, что скажет Ааст Ллун? Не взмолится ли: „Не пускайте детей и туристов в межпланетное пространство: накидают бутылок и банок, замусорят всю Солнечную систему!“»