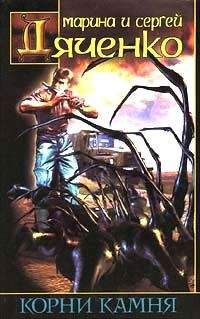Она молчала, забившись в угол, прижавшись спиной к диванной подушке.
– Отвечай!
Она выставила перед собой руки – как будто трясущийся заслон из растопыренных пальцев мог ее от чего-то защитить:
– Не…
И он наконец-то увидел в ее глазах свое собственное отражение. Медленно разжал стиснутые кулаки, перевел дыхание; Павла сидела, не шевелясь.
– Павла, ты себе не представляешь, какое ты сделала… эта твоя глупость… забывчивость, я не знаю, что… какую… почему?! Почему ты мне не сказала, ты можешь объяснить?
– Я ни-е знала, что это в-важно, – пролепетала она, заикаясь. Его губы снова дернулись:
– Не ври. Знала. Почему не сказала?
Она скорчилась и заревела. Тритан по-прежнему стоял в дверном проеме, Павла физически ощущала тяжелый взгляд, лежащий на ее голой шее. На высвободившемся из-под халата четвертом позвонке…
– Этот его спектакль, – наконец сказал он глухо. – Чушь с маслом. Дерьмо… Я твержу им о контроле. Обещаю, доказываю… полную безопасность… И получаю такое вот… от тебя. Почему?..
Он повернулся и вышел, оставив рыдающую Павлу на диване и неподвижную тень скучающего охранника на белой, белой стене.
* * *
Телефон зазвонил в восемь вечера. Не прикасаясь к трубке, Раман уже знал, кто и зачем звонит.
– Добрый вечер, господин Кович, извините, что беспокоим вас в неурочный час… Это служба информации Триглавца. Вы не могли бы зайти к нам сейчас, это недалеко, мы пришлем машину?
– Я занят, – сказал он, вернее, ему показалось, что он сказал, потому что трубка обеспокоенно переспросила:
– Алло, господин Кович, вы слышите?
– Я занят, – сказал он, собрав в комок всю свою ярость. – Если угодно – завтра в это же время.
– Завтра, – голос сделался печальным, – это уже не будет иметь смысла… Не скрою, господин Кович, у нас для вас печальные известия. Как известно, на генеральном прогоне присутствовала комиссия по общественной нравственности…
Раман положил трубку.
Плевать.
Он плевать хотел на все постановления Триглавца. Он не подчиняется Триглавцу, его непосредственное начальство сидит в Управлении…
Девятый час вечера. Кому, кому звонить?!
– Я вам покажу, – бормотал он, лихорадочно потроша записную книжку. – Я вам покажу – комиссия по нравственности…
Потом схватило сердце – резко, как никогда в жизни, он успел только схватить воздух ртом и опуститься на пол, судорожно прижимая к груди все тот же бесполезный телефонный справочник.
Прекрати ломать комедию, сказал трезвый внутренний голос. Ты знал. Надо было, чтобы ребята сегодня отпраздновали…
– Плевать, – сказал он, корчась от боли.
И свет желтой настольной лампы медленно померк в его глазах.
* * *
В десять вечера она вздрогнула от телефонного звонка.
– Павла, – сухой голос Тритана в трубке. – Собирай вещи.
Она не удержалась и всхлипнула. Все это время ей было плохо, очень плохо. Черно, непроглядно, тяжело и душно.
– Павла, – голос в трубке чуть смягчился. – Ничего страшного. Просто собери свои вещи, не много, один чемодан… Все, что ты хотела бы взять. У тебя есть время.
– Я Стефане позвоню, – сказала она сквозь всхлипы.
Тритан помолчал.
– Знаешь… Не стоит. Она ведь сразу примчится, будет… Короче говоря, подумай, стоит ли?
– Я человек, – сказала она еле слышно. – Я хочу просто… хочу спокойно жить.
– Так будет, – сказал Тритан неожиданно ласково. – Не плачь. Все образуется – скоро… Я приеду к двенадцати, будь готова, ладно?
– Я ведь ХОТЕЛА тебе сказать, – прошептала она через силу. – Я ведь собиралась… сказала бы, я…
– Ничего страшного. Теперь не имеет значения… Пока.
Короткие гудки.
* * *
Около одиннадцати вечера в квартире Ковича раздался звонок у двери.
Раман сидел в кресле. «Скорая» пять минут как уехала; в комнате пахло так, как никогда не пахнет жилье здорового человека, но Раман чувствовал себя лучше. Уже ничего.
Когда прозвучал звонок, Раман подумал о двух молоденьких врачицах из «Скорой», которые, возможно, решили, что двух автографов на двух открытках будет недостаточно, что за труд по всаживанию шприца в режиссерский зад следует добавить еще что-нибудь, например, анализ мочи на сувениры…
– Входите! – крикнул он. Вряд ли крик получился хоть сколько-нибудь звучным.
Тот, кто звонил у двери, воспользовался приглашением и вошел. И по шагам его, широким и мягким, Раман понял, что никакие хохотушки из «Скорой» тут не при чем.
– Раман? Это я.
Кович приподнялся в кресле – но тут же опустился обратно.
Вот как. Пришел поставить точку. Увидеть его слабость, увидеть трясущиеся руки, может быть, если повезет, даже и слезы…
Егерь.
Темная фигура в дверях перегородила свет, падающий из кухни.
– Раман? Я пришел сказать, что вы великий режиссер.
Кович молчал.
Надо было попросить хохотушек оставить открытой форточку. Тогда предательские запахи больницы выветрились бы скорей.
– То, что вы сделали… это великий спектакль. Вы талантливее самого Скроя… Хоть его зовут Вечным драматургом. Вы поставили вечный спектакль.
– Издеваетесь? – спросил Раман хрипло. Тот, что стоял в дверях, покачал головой:
– Нет. Если бы ваш спектакль был бездарен… ну, ординарен хотя бы. Ну просто удачен… он имел бы право на жизнь.
На улице пели. Шли, вероятно, обнявшись, веселые студенты и пели, пели, горланили…
– Все, что родилось, – сказал Раман через силу, – имеет право на жизнь.
– Кроме тех случаев, когда оно несет в себе смерть.
Раман поймал его взгляд. Тритан смотрел на коробку кассеты, сиротливо лежащую на краю стола.
– Искусство, – сказал Раман яростно, – не может нести смерть.
Песня под окнами отдалялась и отдалялась, чтобы там, где-то уже на соседней улице, взорваться смехом и девчоночьим радостным визгом.
Человек, стоящий в дверях, поднес к глазам циферблат часов:
– У меня мало времени. Пять минут.
– Зачем вы пришли?!
– Чтобы кое-что вам сказать.
Тритан чуть отступил – желтая полоска света, пробивающегося из кухни, легла ему на лицо.
– Я пришел сказать вам, Кович, что вы гениальный режиссер. Я пришел сказать, что вы жалкий самовлюбленный эгоист. Слепец, прущий напролом. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас испытываете – но мне вас не жаль. Я хочу, чтобы вы знали: своим спектаклем… я же просил, я же предупреждал!.. своим спектаклем вы, кажется, погубили Павлу.
Стало тихо. Не шумели под окнами, и даже сорняки, разросшиеся за лето в цветочных ящиках на балконе, не шелестели под первым осенним ветром. И молчал поселившийся на кухне сверчок.