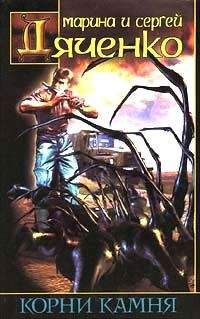Стало тихо. Не шумели под окнами, и даже сорняки, разросшиеся за лето в цветочных ящиках на балконе, не шелестели под первым осенним ветром. И молчал поселившийся на кухне сверчок.
– Вы реализовались, – сказал Тритан шепотом. – Вы сделали это, вас есть с чем поздравить… Вы заставили их думать о Пещере, о том, какая Пещера гадкая и страшная… Вы никогда не видели, как тысячи людей прут друг на друга, стенка на стенку. Как взрываются… бомбы, и летят в разные стороны руки и ноги, виснут на деревьях… Война… Вы такого слова… не осознаете. И уж конечно вы не представляете, как это – на сто замков запирать двери, ходить по улице с оглядкой, входить в собственный подъезд, держа наготове стальную болванку… Каково это бояться за дочь, которая возвращается из школы. И ничего, ничего с этим страхом не сделать. Вы никогда… Вы заставили добрых зрителей плакать о бедных влюбленных и бояться злого егеря, а ковровое бомбометание?! А ядерные боеголовки?! А миллион влюбленных, истребленных в течение дня?! А ямы, где по колено воды, где людей держат месяцами? А «лепестки»… Когда идешь по черному полю, и трава рассыпается у тебя под ногами, с таким характерным… треском…
Раман проглотил слюну.
Тритан Тодин стоял в дверях, хотя ему не так просто было удержаться на ногах. Раман никогда не думал, что егерь может испытывать подобные чувства.
Стоящий в дверях человек увидел его реакцию. Губы его растянулись в подобие усмешки:
– Да, удивляйтесь. Удивляйтесь, господин Вечный Режиссер.
– Что вы говорили о Павле? – спросил Раман хрипло.
Улыбка Тритана превратилась в оскал:
– Павла… Обстоятельства сложились таким образом, что сам факт существования Павлы… есть угроза современной цивилизации. Сегодня, в отсутствие координатора Охраняющей главы, мне удалось добиться отсрочки… Потому что Охраняющая и Познающая тянут, как обычно, в разные стороны. Потому что сегодня меня еще слушали… Но завтра…
– Только троньте ее, – сказал Раман, вдруг ощутив в себе достаточно силы, чтобы подняться из кресла. – Пусть только ее тронут, сокоординатор, и я…
– Дурак вы, – сказал Тодин тихо. – Во-первых, после сегодняшнего я уже не сокоординатор. Во-вторых… что вы знаете о вакуумной бомбе, сааг семь тысяч-прим?!
На какое-то мгновение Раману показалось, что Тодин рехнулся.
– Что? – переспросил он механически.
– Сааг семь тысяч-прим, – устало сказал Тритан, – это ваш идентификационный номер в базе данных… в большом компьютере Триглавца.
Снова стало тихо, но осенний ветер на этот раз осмелел, и сорняки в цветочном ящике зашелестели негромко и сухо, как бумага.
– Где Павла?! – резко спросил Кович.
Тодин отвернулся:
– О Павле следовало думать раньше. И вам, да и… Но если б я знал, что это будет ТАКОЙ спектакль! Я не остановился бы перед тем, чтобы поджечь весь ваш… театрик…
Он повернулся и двинулся к выходу – опрокидывая на ходу какие-то табуретки, коробки, давно заполонившие безнадежным хламом просторную прихожую Рамановой квартиры.
Раман хотел кинуться следом – но у него подкосились ноги. Врачицам-хохотушкам из «Скорой» следовало вколоть ему что-нибудь поэффективнее.
* * *
Тритан вернулся, как и обещал, к полуночи; в четверть первого пришла машина, а еще спустя пять минут затрезвонил телефон, и, вероятно, сообщение было радостным, потому что машина ушла в ночь несолоно хлебавши, а Тритан, к которому ненадолго вернулось обычное расслабленное состояние, обнял Павлу и прижал ее к себе так, что чуть не хрустнули ребра.
– Мы не поедем? – спросила она, полузадушенная.
– Мы поедем завтра, – сказал он рассеянно. – Или даже послезавтра… А может быть – чем черт не шутит? – и вообще не поедем… Давай спать.
Но спать не пришлось.
Они очень долго лежали в темноте, взявшись за руки; у обоих не было сил на любовь, оба не могли уснуть.
– Выпьем микстуры? – предложила Павла шепотом.
– Выпьем, – тоже шепотом согласился Тритан. – Только давай не микстуры, а вина…
Павла радостно согласилась, Тритан поднялся, полез в шкаф и нашел там коробку длинных, как сталактиты, витых зеленых свечей:
– Устроим себе «Ночь»… Ресторанчик «Ночь», ты помнишь?
«Что мне нравится, Павла, так это возможность свободно обращаться со временем суток. Посидел среди ночи – выходишь в день или вечер…» – «А, извините, который час?» – «Полседьмого. Вы спешите?» – «Нет…»
Жаль, подумала Павла, что нельзя выйти отсюда, из этой ночи, в день или вечер. В солнечный день три месяца назад… Или год… Или, по крайней мере, год спустя…
Тритан священнодействовал, пристраивая свечи вокруг стола. И на спинку стула, и в шкаф, и на пол, и перед зеркалом; Павла сидела на кровати, подобрав под себя ноги, и смотрела, как преображается комната.
– Видишь ли, Павла… Есть вещи, о которых нельзя сказать. О которых можно только сделать.
Павла прищурилась. Комната утопала в свечах, комната плыла, как корабль среди звезд, оранжевые огоньки напомнили ей о спектакле, о факелах, о музыке, от которой мурашки бегут по телу, о пепельноволосой девушке и о Ковиче, как он стоял во время поклона, какое у него было лицо…
Ей не хотелось вина. Она только чуть-чуть пригубила из высокого бокала.
…Бесконечное зеленое пространство. Синие цветы сливаются с синим небом… Несущиеся навстречу, навстречу, навстре… Будто падает самолет… Сейчас рухнет, упадет в васильки, сейчас…
– Как я устал, Павла, – сказал Тритан, и язычки свечей зелеными точками отразились в его глазах. – Как я бешено устал…
Пахло расплавленным воском.
Она ткнулась лицом в теплую грудь своего мужа.
Она помнила все его запахи. Она верила в него, как рыбак во время шторма верит в свою лодку. Как акробат под куполом цирка верит в невидимую проволоку страховки.
– Тритан, я…
Ровно и высоко стояли желтые язычки свечей.
– Да, малыш. Не беспокойся. Все будет совершенно в порядке.
* * *
Пещера молчала. Пещера будто бы стала меньше; ниже опустился потолок, уже сделались коридоры, сарна шла вперед, содрогаясь с каждым шагом, будто боясь уткнуться в конце концов в глухую, все запирающую стену.
Нигде не журчала вода. Мох под ногами был сухой и ломался с еле слышным, характерным треском.
Лишайники добирались до самого потолка, отмершие клочья их свешивались гирляндами. Сарна шла, пригибая голову, боясь зацепить зеленоватые клочья напряженным белым ухом.
Не возились насекомые в волглых щелях. Не лопались оболочки личинок. Сарна шла и слышала только себя.