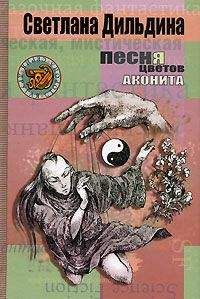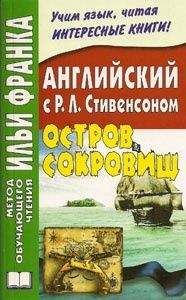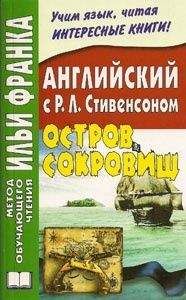Йири не откликается. И вправду — что говорить? Зачем? Подтвердить покорность свою?
— Ты молчишь. Хорошо. А станешь ли ты слушать?
— Как прикажете.
— Тогда слушай. Я знаю, что если ты не сказал «нет», будешь внимателен.
— Говорят, сердечная пустота и холод похожи. Не стану спорить — я плохо знаком с морозами.
Подумал и продолжал:
— Может, меня и любили в детстве. Но с младенчества я был уже «тем, кто когда-нибудь станет править». Наверное, я даже гордился этим. Потом мне нашли жену. Мне было почти восемнадцать, ей — на год меньше. Болезненная, робкая девочка. Все знали, что она скоро умрет. Однако этот брак был важен для страны. Я очень жалел ее, но о большем не могло быть и речи. Мы прожили вместе год. В течение этого года я принял власть. Средний брат мой завидовал. Так вышло, что он погиб, считай, ребенком еще. Этим отмечен первый год моего правления. Я не причастен к его смерти — но, надо признать, это вышло удачно. А она, первая жена моя, просто угасла. Теперь мне даже лица ее не удается вспомнить и кажется странным: неужто — была? Она на севере родилась и ушла в землю, как захотела. Там, где она лежит, растет ежевика…
Он встряхнул головой, словно прогоняя печальные мысли.
— Может, я в чем-то виноват перед той девочкой. Хотя вряд ли. А потом — мне была нужна другая жена. Ей стала Омиэ, ты знаешь. Мать ее — уроженка нашей земли. Синну звали мою невесту Шафран. Молчаливая, гордая, она была по-своему хороша — и дала жизнь Хали. Одного ребенка Омиэ потеряла — после этого я запретил ей ездить верхом. Еще один, мальчик, прожил полтора года. А Хали… девочка льнула к матери. Я же был занят делами страны и не стремился видеть жену. Она всем казалась чужой — и мне. Потом она погибла. Вода холодна поздней осенью… Хали винила меня в смерти матери. Тогда мне все надоело. Я решил: если не дано оставить власть сыну, пусть будет так. И еще одна ниточка порвалась — но тебе не стоит этого знать.
В утреннем свете профиль казался резким. Короткие волосы, подбородок опирается на руку. Из темного дерева вырезан человек — лишь голос звучит падают каплями, неторопливые слова.
— Ты… совмещаешь все то, чего мне хотелось — в себе одном. Любовь к сыну; другая — к совершенно-прекрасному, и та, которая — огонь. Ты был воском в моих руках, а я — мастером.
— Не лучше бы — не воском, а человеком?
— Драгоценный камень требует огранки.
— Да… у меня были хорошие учителя… — Йири откинулся к стене, вытянулся. Застыл в напряжении, понимая, насколько остановленный миг движения притягательней тела расслабленного.
— Я хочу видеть безукоризненное подле себя.
— Понимаю.
— Не только внешне.
— Конечно.
Ах, как Ёши хотел для него — иного. Но у каждого — свой путь, даже если другим он не по сердцу.
* * *
Долгое время он избегал появляться на людях. Когда все же пришлось, на празднике начала зимы — старался затеряться в тени, что отбрасывали колонны и вечнозеленые деревца в кадках. Ресницы опускал, смотрел только вниз — словно на яркое солнце попал. На вопросы отвечал тихо и невпопад.
Серебряную пластину с указанием ранга ему пожаловали неделей раньше. Скромное звание, но вполне достойное — о таком мечтают тысячи вне стен Островка. А уж реальное его положение — о таком и мечтать не дозволено.
В зале было много народу, и женщины тоже — ступенью ниже, как водится. Серебристые лучи проходили сквозь круглые отверстия в потолке и падали на мозаичный пол. Первые дни зимы — в зале было прохладно, хотя теплый воздух поднимался от стен. Женщины нарядились в цветные накидки, покроем напоминающие зимние одежды для улиц — новая мода. Йири, хоть и старался уйти в свою раковину, порой не мог удержаться, чтобы не осудить или не одобрить про себя тот или иной узор или сочетание красок.
Люди заговаривали друг с другом, веселый гомон стоял. Легкая музыка текла отовсюду, и едва уловимые ароматы — можжевельник, южный кедр, лимонник — скользили по залу.
И перемещался по залу взгляд, полный черной тоски — не скользил, скорее, летел отравленной стрелой, когда удавалось увидеть цель. Черный, как отверстая могила, безнадежный, как не успевший остыть пепел погребального костра.
Йири сделал шаг назад — теперь лазуритовая колонна защищала от этого взгляда. Знал — ненадолго. И не было возможности покинуть зал. Он был тут один — можно подойти к тому или к этому, но разве имеет он право здесь заговаривать первым? Разве что с низшими. А те, пожалуй, перепугаются, растеряются, не зная, как отвечать.
Черный взгляд снова нашел его — так и передвигались по залу, не ближе, не дальше.
«Я этого не вынесу». И знал, что Ханари тоже не сумеет сдержаться. Теперь он может одно — убить. Как же иначе? Считай, из рук выпустил, теперь — не дотянешься. Надолго ли хватит его? Возможно, сталь сверкнет в серебристом воздухе уже скоро. Ох, как не хотелось оставлять этот мир…
Если бы кто другой был, возможно, Йири попробовал бы подойти первым, порою открытость спасает. Но не от человека с глазами, как могильная яма.
Услышал, как Иримэ окликает его, стоя внизу. Судорожно кивнул и, тут же забыв о ней, направился к растущим в кадках маленьким, в рост человека, лиственницам. Если Ханари все же не сдержится, пострадает весь Дом. И дети, как и тогда. И Тами… сейчас его нет здесь. А то бы Йири давно подошел, уговорил бы отвлечь или увести брата. Если такое кому-то под силу, конечно.
* * *
— Господин мой… об одном вас прошу.
— О чем же на этот раз?
— Пусть Ханари Лис покинет Столицу. У него ведь много дел новобранцы, и раньше он много времени проводил не здесь.
Цепкий взгляд, тяжело его выдержать.
— С младшим тебя связали кони. А что со средним?
— Ничего.
— И ты надеешься отмолчаться? Когда речь идет о представителе самого сильного Дома? Намерен вертеть людьми Второго круга и ограничиться словом «ничего»?
Йири неожиданно вскидывается, лицо розовеет:
— Я знаю, как много влечет за собой неосторожное слово! А вы знаете меня, господин! Неужто я не могу хоть один раз попросить, ничего не объясняя? И не говорить, почему объяснять не хочу?
А лицо повелителя задумчиво.
— "Не хочу"? Я ведь многое доверил тебе. Пробуешь коготки, мой котенок?
Словно косой по стеблю ударили — почти упал вниз, протянул руки. Складки легкого шелка вспорхнули, а на браслетах заиграли блики.
— Нет! Нет же! Но поверьте же мне — не могу!
— Слишком много «не». Кажется, ты забыл все уроки…
— Я помню! — прозвучало столь горячо, что ясно стало, о каком уроке он вспомнил первым. Ненависть к себе сквозила в голосе, слишком мягком для гневных нот.