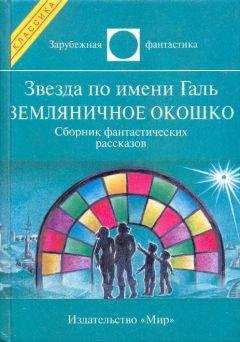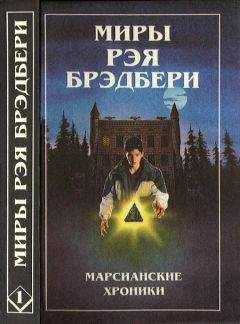Он проверяет, хватит ли у меня храбрости... Ясно, меня испытывают! Ну, если он воображает, что я пойду на попятный!..
Взбираюсь на каменную глыбу, протягиваю руку, снимаю шлем.
Свет распятого мигает, словно в отчаянии. Он самую малость ярче нормального.
Этот тип открывает глаза и смотрит на меня. И улыбается.
— Да, да, — бормочет. — Дети... Пусть ко мне придут дети! — потом он стонет и опять зовет отца. Как будто отец может чем-нибудь помочь!
Я слезаю с глыбы, возвращаюсь к своему Черному. В руке у меня зажат камень.
— Этот будет первый! — кричу я. — А потом я и других буду гасить!
И кидаю камень.
Я попал в висок, и этот тип сразу перестал стонать. Голова опять свесилась, и свет погас. И можете мне поверить, не оттого, что он сам притемнился.
— Чисто сработано, молодец, малыш! — с восхищением говорит мне Черный.
Может, у него оставались какие-то сомнения. А теперь кончено. И Факел сразу перестал мучиться.
— Идем прямо в училище, я им скажу, тебя обязаны принять. Согласен?
... Еще бы не согласен! Погодите, вот я стану офицером, войду в Главный штаб, тогда увидите, что я, Микаэль, сделаю из вашего слепого мира!
Когда мы стали спускаться с холма, я снял очки. За крестом пылало Солнце то самое Солнце, которого другие почти не различают. Далеко-далеко я увидел Жосса и Иоланду в обнимку. Ну и ладно, мне плевать. Мне теперь не до ревности. Прощайте, ребятишки. Теперь я завоюю мир!
Повесть/рассказ, 1967 год
Перевод на русский: Нора Галь
Загнанные землянами в глубины океана аборигены долго и тщательно разрабатывали план мести. Обычная смерть землян их не устроит…
© Scorpion Dog
Текст в сети не найден.
Жерар Клейн
Голоса Пространства
Впервые я услышал голоса Пространства на борту искусственнного спутника, что кружит между орбитами Земли и Луны. На спутнике я оказался потому, что жить на Земле стало невыносимо и захотелось бежать от однообразия и эпидемии сумасшествия, которое подстерегало меня там, на нашей планете. Думаю, вы помните, каковы они были. Годы безумия. Сумасбродство и нетерпимость каждый день грозили войной, и переполненные лечебницы уже не вмещали помешанных.
Но для тех, в ком отвращение не погасило искру жизни, еще оставалось Пространство. Вот где люди еще пытались чего-то достичь. Там, вдали от бессмысленной суеты и угара больших городов, без помех отдавалась раздумьям и работе горсточка людей. Там мы точно знали, каких одолевать противников пустоту, страх, невесомость — и к каким целям стремиться — к Марсу, Венере, Юпитеру, Сатурну, к астероидам, а быть может, и к Меркурию, и к Урану; мы даже мечтали проложить дорогу детям и внукам. Пусть они достигнут звезд.
Наша жизнь была вовсе не так однообразна, как могут подумать. По крайней мере нам она казалась куда увлекательней, чем та, какую мы могли бы вести на Земле. И несмотря на неизбежную строжайшую дисциплину, которой подчинялось все наше существование, мы чувствовали себя свободными, как никогда. Впереди у нас были века научных исследований, наконец-то мы видели звезды, не затянутые пеленой земной атмосферы, заново совершали открытия в пространстве, не знающем тяготения, изучали состояние людей, внезапно поставленных лицом к лицу с миром чуждым и неведомым. Каждый мог заниматься тем, что ему по душе, — и так, не торопясь, в свое удовольствие мы следовали многообразными путями познания. И вот во время одного из таких опытов я впервые услышал голос Пространства.
Специалистом по электронике у нас был Грандэн; он изучал эффект сверхпроводимости, который обнаруживается, когда температура падает почти до абсолютного нуля. Это же явление позволило ему сконструировать сверхточные аппараты и с их помощью тщательно исследовать любую гамму волн, от самых коротких, которые когда-то называли космическим излучением, минуя те, которые наш глаз воспринимает как свет, и до самых длинных. Его чуткие приборы ловили колебания, посланные далекими солнцами тысячи лет назад. На экранах его осциллографов плясали сумасшедшую сарабанду огненные точки, и это значило, что за полтораста тысяч лет перед тем какая-то звезда на другом краю галактики вспыхнула и обернулась сверхновой, прежде чем погаснуть навеки.
Грандэн был худой, сухопарый, странная желтоватая кожа словно бы в трещинах, как будто среди его ближайших предков затесалась какая-нибудь огромная ящерица. Был он на редкость молчалив, казалось даже, ему трудно связать самые простыв слова, так сильна привычка изъясняться математическими формулами. Но в отвлеченном мире электронов ум его обретал необычайную проницательность. Грандэн плохо понимал людей, потому-то и летел, как и мы, по космической орбите, зато никто так не умел подметить признаки недуга, постигающего любую машину. Однако в отличие от многих своих коллег он не приписывал инструментам сложных человеческих чувств. Нет, напротив, он людей готов был считать чересчур сложными, хрупкими машинами, которые слишком часто ошибаются.
Мы работали в самой сердцевине нашей космической станции, под куполом, где нет силы тяжести, под звездами, которые оттуда казались неподвижными, — из боковых иллюминаторов они представлялись светящимися кольцами, потому что спутник вращался вокруг собственной оси.
Мы изучали Пространство — Грандэн при помощи тончайших антенн, а я простым глазом и почти без цели: под этими чистейшими небесами я только размышлял и философствовал.
Вдруг Грандэн страшно побледнел, затряс головой, будто невидимая оса назойливо зажужжала у самого уха. Обернулся и посмотрел на меня.
— Этого не может быть, — сказал он.
— Чего именно?
Он молча смотрел на меня в упор, лицо его искажала медленная судорога. Мне вспомнилось — много лет назад такое я видел у человека, который больше всего на свете любил музыку; в доме его полно было пластинок, казалось, музыка льется отовсюду, и если мерный напев трубы на миг прерывался скрипом, в чертах того человека я видел такое же невыразимое страдание.
— Не понимаю, — сказал Грандэн. — Слышны шумы.
— Помехи?
— Нет. Все помехи мне знакомы.
Это верно. Ухо его различало любое жужжанье, скрип, сухой треск крохотных взрывов, раздающихся в Пространстве; он узнавал любое из незримых насекомых, чьи челюсти неустанно грызут тишину, и далекие шорохи, и виолончельное пение звезд. Любой из этих звуков он мог назвать по имени. Мог ослабить их, почти свести на нет. Мог раздавить их или отогнать, как избавляешься от пчелы или неразличимого во тьме летней ночи ноющего комара.